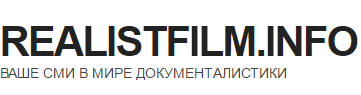Юлия Макарова: “Пусть у нас будет нелогично, но главное — искренне”

Россия. 16 мая, 2025 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Этот материал — спецприз, который ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO вручило документальному фильму “Горький мёд” выпускницы СПбГИКиТ Юлии Макаровой на фестивале “Телемания”-2024. Сейчас картина с большим успехом идёт в фестивальном прокате — на счету победы и участие в 19 престижных зарубежных и российских киноконкурсах.
В 2022 году, выезжая на съёмки на Алтай, Юлия и не думала о таком успехе. Тогда ей предстояло найти точки сближения с героинями, столкнуться с техническим браком на съёмках, трудностями при монтаже, который занял почти два года, и непростыми поисками творческих решений.
Как фильм “Горький мёд” изменил её как режиссёра и человека, и почему искренность теперь стала её главным творческим методом — об этом Юлия Макарова рассказала главному редактору REALISTFILM.INFO Дарье Бурлаковой.

Макарова Юлия Андреевна родилась в Сыктывкаре в 1999 году, в 2023-ом окончила Государственный институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге (СПбГИКиТ) с отличием по специальности “режиссёр неигрового кино и телефильма”. На момент выхода материала является старшим преподавателем кафедры неигрового кино СПбГИКиТ и продолжает снимать документальные фильмы.
“Горький мёд” — дипломная работа Юлии в мастерской Виктора Васильева на кафедре неигрового кино. Фильм рассказывает о сёстрах Скуратовых, которые недавно похоронили отца и пытаются одновременно справиться и с чувством потери близкого человека, и с необходимостью сохранить семейный бизнес — пчелиную пасеку. Картина снималась на Алтае с 1 по 30 августа 2022 года и была окончательно готова к началу 2024-го.
— Юлия, как Вы искали героев для своего дипломного фильма “Горький мёд” и почему выбрали в итоге именно эту историю?
— Четвертый курс подходил к концу, мне нужно было искать тему для дипломной картины. Героинь фильма “Горький мёд”, сестёр Скуратовых, я нашла в интернете. Абсолютно случайно меня занесло на “Пикабу”. Там я увидела пост Татьяны “Дело всей жизни или семейный бизнес”. Она искренне рассказала о своей семье, о пасеке, о том, что недавно ушёл из жизни их отец. В посте Таня также делилась воспоминанием, как с раннего детства отец учил их с сестрой рулить на “Ниве”. В её воспоминаниях я увидела себя: меня мой папа тоже очень любил, и он тоже ушёл из жизни довольно рано.
Дальше всё складывалось парадоксально легко, будто сам Бог велел нам снимать этот фильм. Единственное — Таня попросила неделю на обдумывание и возможность посоветоваться с близкими. Вскоре Таня и её младшая сестра Маша сообщили, что поддерживают идею увековечить память отца в документальном фильме. В их семье царит искренняя и настоящая любовь. Они без стыда и иронии могут открыто выражать свои чувства, говорить о том, как глубоко любят друг друга и на какие жертвы каждый из них готов пойти ради благополучия семьи. Например, когда я впервые попросила Таню рассказать о Маше, она не смогла сдержать слёз. У семьи Скуратовых можно поучиться подлинному выражению любви. Именно это меня окончательно покорило в выборе героинь.
Примерно за месяц мы купили и одолжили необходимую технику и отправились в съёмочную экспедицию на Алтай. Поселились мы в арендованной квартире в том же посёлке, где живёт семья Скуратовых. Вместе с Таней и Машей ездили на их “Ниве” на пасеку. Либо же брали у них вторую “Ниву”: я была за рулём, а оператор Сергей снимал. Например, так был снят кадр в самом начале фильма, где из-за холма выезжает машина. Иногда его ошибочно принимают за техническое наложение двух кадров. Но это не так. Просто особенности рельефа местности на экране создают такую интересную визуальную иллюзию.

— Как Вы говорили с героинями о съёмках и о фильме и как их раскрывали?
— Периодически за кадром мы с Таней говорили о будущем фильме. Однажды она фактически пересказала его образ: “Я так понимаю, фильм будет строиться на наших рассказах о том, каким был отец”. Однако сама я на тот момент не знала, о чём и каким будет кино.
А объяснить героям, каким образом будут проходить съёмки, всегда сложно. Первое время они думают, что мы будем просить их делать что-то на камеру, а после слова “снято” они смогут жить свою обычную жизнь. Конечно, когда герой постоянно находится под “взглядом” объектива, для него это выход из зоны комфорта. В этом плане Таня была терпеливой и уступчивой. Она попросила убрать камеру только однажды — в эпизоде, когда кто-то забыл закрыть окно и пчёлы залетели в избушку, где сёстры Скуратовы обычно обедают и хранят пчеловодческий инвентарь. Для пчеловода, по словам Тани, это настоящая катастрофа и признак его невнимательности.

Для раскрытия Тани в кадре мне очень помогло общение о наших отцах вне камер. Все её монологи, которые есть в фильме, — результат мыслительного процесса, который запускался во время нашего общения. А во время съёмок Таня решила этими размышлениями поделиться на камеру.
С Машей общий язык удалось найти не сразу. У неё другой характер — она менее мечтательная, чем Таня, и более закрытая. Маша считала, что вне пасеки снимать нам не надо. А на пасеке мы со своими камерами, и правда, ей только мешали. Делиться чувствами на камеру Маше было сложнее: её рассказы об отце были более сдержанными, чем Танины.

Лишь в последний день съёмок мы сняли интервью с Машей. Только тогда она рассказала, что бросила работу в Китае, как только узнала о болезни отца, и приехала домой, чтобы продолжить его дело и сохранить семейную пасеку. В этом интервью Маша открылась по-настоящему. Но этот рассказ Маши не попал в фильм. На монтаже мы стремились к тому, чтобы зритель забывал, что смотрит фильм, и хотели не напоминать лишний раз о присутствии автора. И несмотря на искренность рассказа Маши, он был снят как интервью, поэтому мы не смогли его оставить. К тому же, центральным персонажем фильма оставалась Таня.
— О команде фильма. Как она сложилась? Как режиссёр, что Вы делаете, чтобы создать нужную атмосферу в команде, как разрешаете споры и конфликты?
— С оператором фильма Сергеем Соколовым мы вместе учились в СПбГИКиТ. К четвертому курсу обучения мы с ним вместе сняли курсовую работу “Соколики” и один чёрно-белый игровой этюд “Ночь перед Рождеством”. За это время мы хорошо сработались, поэтому оба понимали, что снимать в дальнейшем будем вместе. В качестве второго оператора на “Горький мёд” Сергей пригласил свою одногруппницу Настю Лукинову.
Конфликты в нашей команде возникали. У Сергея непростой характер, с ним сложно работать, поэтому в самом начале я даже думала, что снимать диплом стоит с более сговорчивым оператором. К Сергею нужно найти подход, не каждый режиссёр терпел бы то, что терпела я. Он принципиальный, может даже ничего не снять, если, к примеру, ему не нравится свет. Со вторым оператором, Настей, в этом плане было легче. В фильме “Горький мёд” есть эпизод, где дети в начале фильма играют с Таней, и шутят, что у неё двойка по физкультуре. Сергей тогда сделал пару кадров и сказал: “Я тут снимать не могу”. А Настя досидела до конца и в итоге сняла этот эпизод, который вошёл в фильм.
Несколько раз во время экспедиции были моменты, когда я выходила из нашей квартиры намотать круг по посёлку, чтобы поплакать и вернуться к ребятам. “Надо терпеть ради фильма, — говорила себе я, — иначе Сергей психанёт и вообще мне ничего не снимет”. Сейчас мне легко об этом говорить, потому что мы с Сергеем это обсудили, и наши отношения стали совсем другими. Мы больше понимаем друг друга: он больше идёт навстречу, я тоже прониклась тонкостями операторского искусства, заранее знаю, где Сергей не сможет качественно справиться со своей работой и предлагаю способы улучшить ситуацию.

Первым звукорежиссёром фильма был студент СПбГИКиТ Семён Дмитриев. Однако у нас было разное понимание работы с документальным материалом. Семёну было непонятно, почему я так медленно исследую тему и не иду сразу брать интервью. Позже Семён и вовсе не смог взяться за постпродакшн, и мы позвали делать звук выпускника СПбГИКиТ Сашу Кознова. Продюсер у фильма тоже менялся. Сначала им был студент нашего института, который немного помогал при подготовке, но не смог поехать на Алтай. А потом и вовсе очень подвёл нас — по его вине мы потеряли деньги на авиабилетах. Поэтому дальше мы с ним не общались, и в титрах я его не указала.
Вообще я считаю, что команда документального фильма — четыре колеса одной машины. А не так, что я руковожу членами съёмочной группы как своими подчинёнными. А атмосферу создаёт идея фильма и герои, в данном случае Таня с Машей, пасека, пчёлы. И ещё важно личное отношение членов команды к своему делу.
— Был ли у фильма “Горький мёд” сценарий до начала съёмок? Как он менялся по ходу съёмок?
— Я всегда считала, что любой документальный фильм — о любви и о человеке. На курсовой работе — фильме “Соколики” — мне казалось, что всё можно спланировать. А на дипломном фильме мы с Сергеем решили больше обращать внимание на свои чувства. Он даже говорил “Вот если я снимаю и мне нравится, я продолжу снимать, если нет — то не буду”. Во время монтажа так же. Если я что-то чувствую от этих слов и кадров — я их оставлю, если нет — убираю. И пусть у нас будет неправильная структура, неполный портрет. Нелогично, но главное — искренне.
Поэтому каким будет фильм, мы не знали сразу. В процессе съёмок мы просто подмечали хорошие вещи и снимали их, как будто собирали кусочки пазла. Я, конечно, писала синопсис перед началом съёмок. В нём был сделан акцент на конфликт между сёстрами, у которых потеря отца до сих пор остаётся зияющей раной. И мы видим, как это проявляется в их жизни на пасеке. В черновой монтаж мы даже вставляли некоторые перебранки Тани и Маши (всё-таки у них очень разные характеры). Однако во время монтажа наш преподаватель Николай Васильевич Волков донёс до нас мысль, что раздоры сестёр носят временный характер и не стоит включать их в фильм, который создаётся в память об их отце.

Изначально мы планировали быть в экспедиции 20 дней. Но под конец стало ясно — материала не хватает. Поэтому мы с оператором Сергеем остались ещё на 10 дней. Благодаря этому сняли выезжающую из тумана “Ниву”, а в ночь перед отъездом — монолог Тани о звёздах. Он стал важной финальной точкой!
Когда съёмки завершились, я ещё не очень понимала, каким будет фильм. Но возвращалась в Петербург с мыслью, что у нас есть три хороших монолога, из которых может получиться кино. За месяц съёмок мы прожили маленькую жизнь и вернулись домой другими людьми.

— Вы вернулись из Алтая в Петербург. Как проходило Ваше взаимодействие с мастером при создании дипломной работы? Были ли моменты, когда педагоги дали какой-то важный совет, который помог найти творческое решение?
— Мой мастер Виктор Евгеньевич Васильев (и.о. заведующего кафедрой режиссуры документального фильма, доцент кафедры режиссуры игрового кино. — прим. REALISTFILM.INFO) никогда во мне не сомневался и давал “зелёный свет” всем моим идеям. Сама тема пчеловодства ему понравилась — он понимал, что “природный экран” добавит фильму несколько очков. Обычно в монтаж моих фильмов Виктор Евгеньевич не лез, считал, что я смогу справиться сама.
Позже черновой монтаж увидели другие наши преподаватели — Мария Георгиевна Поприцак, Михаил Гарьевич Железников, Сергей Михайлович Ландо. Благодаря их комментариям мы поняли, что делаем что-то важное.
Затем мы много работали над монтажом вместе с мастером Сергея — Николаем Васильевичем Волковым. Мы приходили в институт монтировать в 10 утра и уходили в 12 ночи. Он очень помог нам добиться большей художественности. С первым черновым монтажом я дошла до определённого потолка — было тяжело по-новому взглянуть на материал, над которым сидишь полгода. Я не смогла бы “пробить” этот потолок в одиночку. Кроме того, я испытывала “операторский абьюз” со стороны Сергея — он считал, что некоторые кадры нельзя брать в фильм, потому что они недостаточно хорошо сняты.
Островком безопасности для меня стал Николай Васильевич, потому что на монтаже я стала вытаскивать все кадры, которые забраковал Сергей, и Николаю Васильевичу они очень понравились, несмотря на некоторый операторский брак. При монтаже Николай Васильевич предлагал самые странные и неожиданные решения, которые порой даже казались бредовыми. Но только через этот путь получалось найти новое решение. За время работы над монтажом “Горького мёда” мы впитали от Николая Васильевича много полезного. Он рассматривал ценность каждого кадра, пытался вытянуть из него максимум информации. Благодаря ему я начала по-другому смотреть на монтаж любого фильма и поняла, что иногда ты можешь врать сам себе в своём же фильме.

Например, у нас был кадр — Таня держит баночку мёда на солнце, якобы пытается сквозь мёд что-то увидеть. Очень нам этот кадр нравился. Но Николай Василеьвич сразу сказал: “Это никуда не годится, что это она как на ярмарке стоит мёд продаёт?” И правда, мы тогда так увлеклись монтажом, что перестали замечать, что чувствуем от кадра. И эту пелену с глаз нам помог снять Николай Васильевич.
— Что было самым трудным в создании картины?
— Труднее всего было как раз монтировать. Всё-таки мы отсняли 64 часа материала. Монтаж длился с сентября 2022 года по апрель 2023-го. Через несколько месяцев, в сентябре-октябре, мы заново перемонтировали фильм.
А во время съёмок сложность была в том, что Таня и Маша каждый день ездят на одну и ту же пасеку. Из-за чего мы сильно “растворялись” во времени, забывали снимать “сценами” и просто ловили удачные кадры. Поэтому многие сцены в медогонке и на пасеке собраны уже на монтаже — буквально покадрово с разных дней. Это было непросто.
— Какие фильмы были референсами при создании “Горького мёда”, если они были?
— В мае 2022 года по счастливой случайности я оказалась на показе фильма Ефима Грабоя “Война Раи Синицыной”, который по сей день остаётся одним из моих любимых. Меня очаровали честные взаимоотношения режиссёра с героиней и что он не боится сам появиться в кадре. Во время съёмок “Горького мёда” мы с оператором Сергеем только и переговаривались “а вот это мы снимем, как в Рае Синицыной…”.

— Фильм выделяется особой атмосферой, поэтичными кадрами, создаётся ощущение воздушности. Как достигали такого эффекта?
— Во многом это заслуга Николая Василеьвича. В первой моей версии монтажа фильм был более “прямым”, реалистичным. В ней многие хорошие кадры мы “продавали задёшево” — кадр стоял не в том месте, не с той длительностью, а мог бы выглядеть богаче. С Николаем Васильевичем появилось больше поэтики и состояний. Именно он помог найти многие творческие решения. Из таких спасённых им “богатых” кадров состоит начало фильма — когда бесконечный мёд растворяется в звёздном пространстве, Таня смотрит в монокуляр (как будто высматривает среди звёзд отца), “Нива” выезжает из тумана, облака растворяются в портрет Тани. Кстати, идею с силуэтом машущего рукой отца Тани и Маши, стоящего среди звёзд, тоже подал Николай Васильевич. Тогда мне такие идеи были не близки, но этот образ стал лейтмотивом фильма.

Благодаря Николаю Васильевичу и его подходу кино, которое строится только на сюжете, мне уже не очень интересно. Мне нужно пространство для рефлексии, как говорит Николай Васильевич, — “состояния”. Это и есть кино. Поэтому особая поэтика “Горького мёда” — это то, как мы чувствуем.
А технически — у нас было довольно бедное оснащение ввиду того, что съёмки выездные: две фотокамеры – Nikon Z6 и одна Sony а7 III. Писали видео в Full HD, потому что в 4К камеры не писали больше 25 к/с. А нам нужно было 50 к/с для рапидов. К тому же карты памяти были малой ёмкости, поэтому даже при большом желании мы не могли постоянно снимать в 4К. Из световых приборов были только две маленькие и две средние светодиодные панели. Всё это привело к тому, что было много брака. Часто приходилось снимать практически в темноте при нехватке света или наоборот при палящем солнце, когда камере не хватало динамического диапазона. Ещё было много проблем с автофокусом, так как не всегда на солнце удавалось увидеть что-то на экране фотокамеры. Приходилось доверять автоматике. ND-фильтр на длинном фокусе давал эффект двойного изображения.

В первый день по абсолютно нелепой причине Сергей отснял материал без звука. Дело в том, что наш первый звукорежиссёр часто брал проводки от пушек для прослушивания музыки в машине. А я, увидев это, надела на камеру Сергея запасной провод, который оказался бракованным. Три дурака. Один забыл вернуть провод, вторая подключила бракованный, третий не посмотрел на экранчике камеры, что звук не записывается…
Теперь у нас совсем другие возможности. У Сергея новая камера, мы купили хорошие петлички, есть хорошая накамерная пушка, диктофон. Но фильм уже не переснять. Видимо, так и надо.
— Для Вас это третий документальный фильм. Если сравнить работу над ним и предыдущими — заметили ли Вы в себе какие-то изменения в себе как в человеке и профессионале? Например, стало ли проще работать в команде, выстраивать отношения с героями?
— До поступления в институт я считала себя творческим человеком, горящим своим делом. Считала, что в любой работе моя голова будет подавать мне идеи. Но почему-то, снимая фильмы в вузе, я как будто не могла проявиться по-максимуму. Всегда было ощущение — я же могу лучше! К тому же в документальном кино мы всегда ограничены тем, что есть… Вот ты промахнулся и выбрал не того героя — а значит, уже тяжело сделать эмоциональную, трогающую душу историю. Тронет меня — значит тронет других. Но не всегда получается это собрать воедино.

Если говорить об изменениях, наверное, главное из них — я стала меньше думать головой и больше чувствовать. Когда-то, увлекшись коммерческими заказами, я потеряла себя и стала более прагматичной. Но, слава Богу, я опять себя нашла.
«Искренний подход – вот мой метод теперь»
Ещё есть искреннее и честное документальное кино. Это даёт силы верить, что и у меня всё получится.
Стало ли проще работать в команде… Как я уже сказала об операторе, с ним мы определённо нашли гармонию. Со звукорежиссёрами мне не везло — не успела за годы учёбы найти своего. Но сейчас на одном проекте я познакомилась со своим человеком, и думаю, буду звать его на будущие фильмы.
— Что помогает Вам понять — задача достигнута, и Вы сняли хороший фильм?
— Мои чувства от героя, сказанных слов и эмоций. Но полностью и адекватно сам свой фильм не увидишь, пока не дашь кому-то посмотреть. Только когда на черновом монтаже преподаватели дали свою оценку, мы поняли, что фильм получается.
— Каков бюджет фильма и как оцениваете его фестивальную судьбу?
— Мы потратили на съёмки около 300 тыс. рублей. Потом ещё 100 тыс. — на постпродакшн, а сейчас активно отправлялем на платные зарубежные фестивали, так что расходы мне уже сложно сосчитать… Если смотреть на результаты фестивальных отборов, фильм больше берут в России. Не знаю, из-за темы или потому что сейчас обострены отношения с другими странами. Но везде на показах играет свою роль контекст. Иногда, если программа состоит из похожих по настроению и темпу фильмов, нас принимают на “ура”. Но один раз нас поставили в одну программу с довольно динамичным, бодрым фильмом. Тогда прямо из зала мне сказали, что кино я делать не умею и сильно заигрываюсь со спецэффектами.
В рамках другого фестиваля “Горький мёд” показывали студентам, в актовом зале колледжа. Но не на проекторе, а на телевизоре… Перед началом показа для сбора студентов включили клубную музыку. Все веселились, танцевали.
«Я зашла в зал, увидела эти танцы студентов, этот телевизор, представила, как мне сейчас со сцены нужно будет презентовать фильм и настроить публику на кино о потере, с которой сталкивается каждый… Не выдержала этого диссонанса и ушла плакать в каморку».
Тогда я попросила Сергея вместо меня рассказать о фильме со сцены. А он тоже довольно чувствительный. Первое время на всех показах “Горького мёда” он даже плакал в финале, поэтому ему такая презентация тоже далась тяжело. После просмотра мы приготовились отвечать на вопросы, но на конечных титрах двери распахнулись и студенты повалили из зала. Один парень даже, вскинув руки, закричал на весь коридор: “Грёбанный артхаус!”. После этого мне даже стало легче.
— Юлия, как организовано сейчас продвижение картины и какие планы дальше?
— У меня есть фестивальный агент, который составил план фестивальной рассылки и отправляет фильм. Из зарубежных фестивалей — мы были в Барселоне, Тунисе, Сербии, Африке, Франции. Впереди у “Горького мёда” ещё год фестивальной “жизни”, потом выложим его в интернет, как принято в СПбГИКиТ.
— Сейчас Вы сами преподаёте в СпбГИКиТ. На Ваш взгляд, что в профессии главное, чему должен научиться режиссёр документального кино?
— Меня просто уговорили прийти преподавать, чтобы я была вторым мастером у Виктора Евгеньевича. Мне пока тяжело даются некоторые вещи, потому что не все пришедшие учиться реально хотят снимать документальное кино. Хотя есть и горящие ребята, но мне их жалко, потому что путь документалиста тернист и опасен.
Лично я считаю, что преподавать мне по большому счёту нечего — надо ещё самой многому научиться.Чему должен научиться режиссёр документального кино? Сейчас я скажу то, до чего доходила постепенно пять лет. Потом я вычитала очень близкие идеи в эссе Льва Толстого “Что такое искусство?”.
На первом курсе, под впечатлением от фильмов фестиваля “Послания к человеку”, я для себя решила, что нужна “искренность”. На третьем курсе поняла, что в дополнение к этому нужно ещё уметь “чувствовать”. Не знаю, что на меня повлияло, — три года в мрачном Питере или работа на коммерческих проектах исключительно за деньги, — но в какой-то момент мне показалось, что я разучилась чувствовать и пыталась это вернуть.

Уже на пятом курсе я пришла к выводу — чтобы “искренне” передать то, что “чувствуешь”, необходимо “мастерство”. Оратора, который вышел на сцену, но не может внятно произнести речь, никто не станет слушать. Так же и в кино. Это я поняла только после работы с Николаем Васильевичем Волковым. Слава Богу, он увидел, что мы хотим передать, и помог с большим мастерством рассказать об этом в фильме так, чтобы наши чувства стали более доступными.
— Обязательно ли, на Ваш взгляд, получать образование в вузе, чтобы прийти в документалистику?
— Наверное, нет. У меня есть знакомый, который просто начал снимать кино, и у него сразу стало получаться. Но для этого он много где побывал и много что видел. Я об Алексее Головкове. Плюс учёбы в вузе, что рядом с тобой профессионалы, которые готовы тебе что-то посоветовать. Мы с одногруппниками поняли это только на курсе третьем и начали терроризировать письмами наших крутых преподавателей. Я приехала в Петербург из Сыктывкара, училась на бюджете, поэтому вопросов о том, пользоваться ли такой возможностью, даже не возникало. Но на платных отделениях учёба стоит очень дорого. Поэтому советовать всем обязательно получать режиссёрское образование я не могу.
— Над какими фильмами Вы сейчас трудитесь, после успешного выпуска “Горького мёда”?
— Около года мы пытались найти финансирование на фильм о девушке-каюре, которая работает на Шпицбергене. Два раза подавались на конкурс Министерства культуры, заняли второе место на “Питчинге дебютантов” в Москве, были на питчинге “Послания к человеку”. Но получить финансирование не вышло. А потом стало известно, что хаски-ферму закрывают… То есть конфликт обострился ещё сильнее, но так как деньги на фильм мы не нашли, тема ушла. Это сильно демотивирует — кажется, что любой проект, в который ты веришь, вкладываешь силы, может просто не запуститься и кануть в небытие, оставшись только концепцией. А мы-то, документалисты, понимаем, что самое интересное раскроется в процессе.
Но, слава Богу, судьба меня сводит с правильными людьми. Я даже шучу, что закончила пять курсов института, а теперь я на седьмом — выхожу на практику с мастером. В сентябре 2024 года мне посчастливилось начать работать с Анной Алексеевной Ганшиной над документальным полнометражным фильмом “Максимум” производства “Ленфильма”. Это фильм о 15-летнем скейтере Максиме Лаллав, который в полтора года остался без ног, а сейчас известен на весь мир. Анна Алексеевна пригласила Сергея оператором, а позже обратилась ко мне, так как из-за преподавания не может быть на всех сменах. В итоге мы работаем как два режиссёра, дополняем друг друга: где-то я полагаюсь на неё, где-то она на меня. Наш главный герой — подросток, и мне вроде бы легче его понять. Я охотно перенимаю подход и опыт работы Анны Алексеевны. Судя по тому, как у нас складываются отношения, это, наверное, не последний наш совместный фильм. Она говорит, что всё у меня будет хорошо. Нужно только перестать ныть.
А с января 2025 года я работаю над документальной картиной “Памяти маэстро Владимира Попова” по заказу Государственного Русского концертного оркестра в Санкт-Петербурге. Это фильм о создателе и дирижёре оркестра и о жизни оркестра сейчас. В нем я участвую в качестве сценариста и режиссёра, а Сергей Соколов – оператора. Оба фильма выйдут в 2025 году.
Наш дипломный фильм “Горький мёд” собрал много призов, РГАКФД даже признал его достойным государственного хранения, а недавно мы получили в Минкульте прокатное удостоверение. На парах студенты часто спрашивают об этом фильме, истории его создания, работе с героями. Но я чувствую, что мы сами уже стали совсем другими, и надо жить дальше и делать что-то новое.
СПРАВКА REALISTFILM.INFO: Фестивальные награды фильма «Горький мёд» за 2024-2025 годы:
▪️ Международный кинофестиваль «Соль Земли» (Россия) – «Лучшая операторская работа»;
▪️ Открытый фестиваль документального кино «Россия» (Россия, Екатеринбург) – «Лучший дебют»;
▪️ Международный кинофестиваль студенческих фильмов «Питеркит» (2-й этап) (Россия) – «Лучшая операторская работа в неигровом кино», «Лучший неигровой фильм»;
▪️ Всероссийский кинофестиваль «Белая птица», (Россия, 2024) — «Лучший студенческий документальный фильм»;
▪️ Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» – (Россия, 2024) «Лучший фильм», студенческий конкурс;
▪️ Международный кинофестиваль и кинолаборатория «Свидание с Россией» — дипломы «За лучший дебют», «Лучшая операторская работа»;
▪️ Международный кинофестиваль в Казани «Zilant» — Гран-при;
▪️ Международный фестиваль «Крылатый барс» — победитель в номинации «Лучшая режиссёрская работа»;
▪️ «Come on! Doc» — (Тунис) конкурсная программа;
▪️ Международный кинофестиваль «Листопад» (Минск) — «Лучший фильм национальных киношкол»;
▪️ «My first doc» (Франция) — участие в конкурсной программе;
▪️ Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Москва) — участие в конкурсной программе;
▪️ Международный открытый молодёжный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» (Москва) – номинация «Лучший документальный фильм» 3 место, «Лучшая операторская работа» 3 место, специальный диплом rt.doc — «За надежду на возрождение после жизненных невзгод»;
▪️ Специальный диплом ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА REALISTFILM.INFO — «За особое видение внешней и внутренней красоты человеческой жизни»,
▪️ Российский государственный архив кинофотофонодокументов диплом «Фильм достойный постоянного государственного хранения»; ▪️ «Barcelona International Film Festival» (Бразилия) — специальное упоминание жюри;
▪️ International Film Festival «SENSUS» — «Лучший документальный фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа»;
▪️ Международный фестиваль «Неизвестная Россия» — специальный приз жюри в номинации характеры;
▪️ Russian South Africa International Film Festival – Finalist;
▪️ Всероссийский телевизионный студенческий конкурс ТЭФИ (2025) – победитель в номинации «Лучший оператор».
Подпишитесь на REALISTFILM.INFO в социальных сетях: Вконтакте, Youtube, Telegram.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
Похожие новости
Андрей Плахов: «Кино, куда бы оно ни уходило, всё равно возвращается к своей основе. А основа его – реальность»
О смещении границ игрового и документального кино, кинематографе будущего и способах привлечения зрителя – в интервью кинокритика и арт-директора фестиваля
В Москве пройдёт фестиваль для молодых кинематографистов “#ПитчингиФест”
Россия, Москва. 13 июня, 2021 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
В День российского кино состоялась дискуссия о влиянии телевидения на кинопроцесс в России
Россия, Москва. 4 сентября 2016 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO. 27 августа 2016 года в День российского кино в кинотеатре «Звезда»