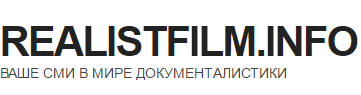I-movie сериал “Тот май”: автор спрашивает автора про кино о самом себе

Россия. 16 июня, 2021 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Одно из главных достоинств документального кино — его демократичность. “Снимай хоть на спичечный коробок, но принеси мне кино”, — говорил великий Александр Расторгуев своим ученикам. И действительно, всё больше независимых авторов приходят в документалистику без киношного бэкграунда, снимая фильмы на что и как придётся, на одном лишь чутье. Дебютный фильм “о плацкарте в России и России в плацкарте” “Масса нетто” журналист издания “Тайга.инфо” Олег Циплаков вместе с Никитой Лопатиным снял по собственной инициативе в 2019 году, учась на журфаке НГУ. Фильм финансово поддержал Юрий Дудь, а затем картина стала номинантом конкурса “Сеть” Артдокфеста-2020.
Спустя полтора года на Youtube вышел второй неигровой проект Олега — автобиографический документальный сериал “Тот май”. Это аймуви-сериал, снятый в родном для автора селе Северное на окраине Новосибирской области в мае 2020-го, в разгар ковидной самоизоляции.
Фильм снят в жанре, название которого можно перевести, как ”кино про себя”. Уж если можно снять фильм о самом себе, то почему бы автору не взять и интервью у самого себя – подумали мы и откликнулись на идею Олега рассказать о картине “Тот май” таким необычным способом. Вот, что из этого получилось. Встречайте интервью Олега Циплакова с самим собой — журналист спрашивает документалиста.
В тот май в Северном было аномально жарко, народ гадал, дойдёт ли ковид и в нашу сибирскую глушь, а больше не происходило ничего. Оставалось только рассматривать в калейдоскоп-видоискатель старенькой камеры ностальгически-пасторальные осколки жизни вокруг.
Журналист: А с чего ты вообще решил, что это кино, а не хоум-видео рядовое?
Документалист: А я вообще за десакрализацию арт-практик и против придыхания над большими словами, типа Искусства, Кино. Мне кажется, в 2021-м году для легитимизации не нужны никакие критерии, кроме внутренних. Документалистом (так же, как и художником, журналистом, писателем) может назваться тот, кто считает себя таковым, и это же касается определения результатов его работы. Знание не концентрируется лишь в профильных учебных заведениях, а для входа в профессию не обязательно одобрение каких-нибудь заслуженных экспертов.
Журналист: Окей, а о чём твой сериал? Там же нет никакого сюжета.
Документалист: Это правда. Когда я описывал эту фактуру одному своему старшему и статному коллеге, он тоже спросил: “А где сюжет?”. Я ответил, что, убеждён, главным может быть не история, а интонация, антураж.
Вообще же дело было так. В тот май я был фрустрирован пандемией, все документалистские амбиции заморозились на неопределённый срок, я приехал в родное село, чтобы написать хтонический репортаж о местном маньяке и остался. Без цели вообще — в городе скучно и одиноко, а тут мамина еда, и можно кататься на велосипеде. И вот, 8-го мая у меня в руке оказалась старенькая камера моей тёти. Я навёл её на бабушку, и как-то само собой начало происходить кино, оставалось лишь быть чутким (с этой сцены с бабушкой — первое, что я на эту камеру записал — начинается весь сериал). Дальше дядя-депутат взял меня на надомные поздравления двух оставшихся в селе ветеранов, и сложилась первая серия, “День победы”. Потом заурядная (не)поездка на рыбалку вместе с дедом обернулась греческой трагедией и раскрытием всех глубин дедушкиной русской души — это серия №2, “Жабара”. Из поездки на велосипеде в ближайшую деревню, чтобы навестить прабабушку, тоже вышла отдельная история — серия “Гражданцево”. А 4-я серия, “Северное”, как бы про всё село, появилась лишь на монтаже — я до последнего не понимал, о чём она, но потом сама жизнь, как всегда, подкинула своих акцентов.
Журналист: Это же нарциссизм — делать кино про себя. Кому это может быть интересно?
Документалист: Это запрос на подлинность. Ну оглянитесь даже на своё медиа-окружение: никто уже не боится “выносить сор из избы”, быть “несдержанным” и хрупким — все стремятся к прозрачности, что равняется, по-моему, и честности. Мой знакомый театральный режиссёр Артём Томилов сделал, вот, спектакль про самого себя в родном Омске, он так и называется — “Артём Томилов” (об этом, кстати, будет моё следующее кино, оно уже снято). И “Артём Томилов” идёт в гостеатре наравне с “Ромео и Джульеттой” и “Человеком из Подольска”, например.
Хотя оговорюсь: спектакль Артёма, как и это интервью, жест во многом самоироничный (актёры спрашивали Томилова, кто он такой, чтобы ставить спектакль про себя, не чувствуя в этом сознательного троллинга ситуации “сначала добейся“ в искусстве, и с меня так же можно спросить, а с какой это стати я, только-только начавший что-то снимать, уже даю интервью, причём самому себе). Но, вместе с тем, я правда думаю, что честнее всего сегодня говорить о себе — кого мы ещё чуем чутче? “Пиши, приятель, только о себе — всё остальное до тебя сказали”.
Хотя оговорюсь ещё раз: убеждён, что важнее не история, а интонация, с которой она рассказана.

Журналист: “Тот май” вышел спустя ровно год после того мая, когда и проходили съёмки. Почему так долго?
Документалист: Главное мастерство и в документальном кино, и в журналистике, и вообще — это мастерство резать. Казалось бы, это нормальная практика для дока, когда фактуры 100-200-500 часов, и потом выходит часовой фильм. А я представить не могу, какой холодной должна быть голова и лёгкими руки, чтобы такой монтаж не растянулся на годы. К “Тому маю” набралось 25 часов материалов, и мне реально потребовался год, чтобы отсортировать, расшифровать и подписать все исходники, а потом только выстраивать драматургию и вычищать.
Но всё-таки самая активная фаза монтажа была за месяц до релиза. К этому моменту уже вышел фильм Евгении Останиной “Rastorhuev”, чтобы посмотреть который я специально летал из Новосибирска в Москву. Ну, и мне не могла не запасть в голову фраза Расторгуева, что главная задача документалиста — не обокрасть героя. И я просто сломал голову, как, например, из полуторачасовой беседы с прабабушкой, которой уже нет в живых, слепить, с одной стороны, лаконичный и смотрибельный, а с другой — исчерпывающий и честный её портрет. Она ведь, может, именно по этому фрагменту останется в памяти многих.
Я впервые настолько полно осознал, какая это ответственность — создавать медиа-слепки реальных людей.
Поэтому да, целый год. Может, это и вправду дело (недостатка) мастерства, но всё-таки, думаю, любому материалу желательно отстояться.
Про что последняя серия, я, например, понял лишь за несколько недель до уже намеченного релиза. Мы с родными сажаем картошку, и дедушка говорит, что один из сортов называется «Реанимация». После огорода отец-реаниматолог, отдыхая, смотрит видео на ютубе про ИВЛ, а в конце серии говорит, что коронавирус, увы, добрался и до нашего Северного. Пройдёт полгода, и папа будет собственноручно интубировать своего отца — моего деда, который рассказывал про картошку «Реанимация», — но так и не сможет его спасти. В момент съёмок казалось, что это всё не связанные друг с другом эпизоды.

Журналист: Как отреагировали родственники? В сериале ведь много довольно интимных семейных сцен. И вообще, расскажи про манеру общения с ними.
Документалист: Я скидываю им много разного дока — они знают, что такое кино есть, поэтому никакого культурного шока в итоге. Ну и вообще, могу гордо сказать, что у нас довольно высокий уровень доверия в семье: мама, папа, тётя, бабушка одними из первых чекают мои сторисы в Инстаграме, у нас со всеми активные чатики в Телеграме. Могу сказать, что мы намеренно стремимся к этой самой прозрачности и общности языка.
Журналист: Были какие-то референсы, на которые ты опирался?
Документалист: Понятно, что референсы для дока — это вообще вещь глупая и даже вредная. Как могут в принципе быть сторонние примеры реальности, когда у каждого она своя? Оксюморон такой выходит. Но были фильмы, которые я, так вышло, смотрел прямо в момент съёмок, и с каждым из них пришло какое-то важное понимание. Вместе с мамой мы посмотрели “Родных” Виталия Манского, и я увидел пример, как можно честно снимать даже самых близких родственников. А с бабушкой — “Все дороги ведут в Африн” Арины Аджу. В фильме есть момент, где отец объясняется с дочерью, которая, спустя годы разлуки, приехала в его родную Сирию. Это, может, самая пронзительная сцена в современном российском доке, что я видел, но там ничего нет, снималось в темноте — только голос дочери и отца, и тлеет сигарета. Нас на журфаке на полном серьёзе заставляли вырезать дубли, где есть малейший расфокус или недосвет. Здесь же я окончательно понял, что подлинность намного значительнее “качества“.
А, и ещё я прочитал текст Наташи Дерикот про I-move на НОЖе и внутренне легитимизировал то, что я делаю.

Журналист: Как и дебютный фильм, “Масса нетто”, “Тот май” просто был выложен в общий доступ на Youtube-канал с парой сотен подписчиков. Почему не хотел попридержать премьеру и не попытать счастье на фестивалях?
Документалист: Это принципиальный жест и вообще больная тема. Мне кажется огромной несправедливостью (как минимум), что из-за фестивалей, которые, как правило, все только в оффлайне, многие фильмы попадают в общий доступ лишь через 2-3 года. Ты либо узнаёшь о них через рецензии в профильных СМИ, либо выпрашиваешь, как что-то подпольное, у знакомых документалистов заветную ссылку на Vimeo. Но это ещё ладно. А много документальных фильмов, даже уже объездив все фестивали, в принципе не добирается до зрителей — видимо, авторы изначально этого не планировали. Меня, как зрителя, такая ситуация очень задевает, складывается впечатление, что кино создавалось лишь для узкого внутриконфессионального круга профессионалов и в погоне за наградами.
А запрос на документальное кино, вместе с тем, растёт. Серьёзно: у меня есть несколько избалованных артом знакомых, есть несколько друзей из совершенно смежных сред, а объединяет их то, что они изрыли за последний год весь Пилигрим и Артдокмедиа. Потому что то, как воздействует мейнстримные блокбастеры или игровой арт-хаус, уже все давно поняли, глаз затёрся, а вот док может по-настоящему торкать. Ещё и от того осознания, что его сняли не толпы профессионалов с огромными бюджетами, а, можно сказать, такие же, как ты, вооружившись лишь простенькой камерой, чутьём и отвагой.
Но вот парадокс: для съёмок документальное кино часто доступнее, чем для просмотра.
Посмотреть документальный сериал “Той май“ можно на Youtube-канале Олега Циплакова “Глядя на сварку“.
Подпишитесь на REALISTFILM.INFO в социальных сетях: Вконтакте, Youtube, Telegram.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
Похожие новости
“В эру тик-токов важно идти в глубину и сохранять более вдумчивые форматы“. Интервью с Виктором Илюхиным о новом наборе в школу Un/Filmed
Россия. 12 августа, 2024 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Снять фильм о религии народа мари оказалось непросто – режиссёр Андрей Огородников
Россия. 9 января, 2022 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Светлана Астрецова: «Не понимаю документалистов, которые презирают телевидение»
В преддверии премьеры документального фильма «Класс» ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO поговорило с его автором Светланой Астрецовой