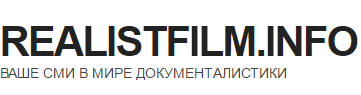Открытая встреча у закрытых дверей: академия Никиты Михалкова организовала встречу с Андреем Звягинцевым

Россия, Москва. 27 ноября 2016 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO.
15 ноября 2016 года в Государственном театре киноактёра в рамках учебной программы Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова состоялся открытый мастер-класс с Андреем Звягинцевым. Желающих попасть на встречу с известным кинорежиссёром оказалось столь много, что регисрация закрылась задолго до начала мероприятия. Правда, формат мероприятия несколько удивил собравшихся. Сам открытый мастер-класс проходил у закрытых дверей кинозала. Один из устроителей встречи пояснил, что издан приказ о закрытии зала на ремонт, и хотя по факту никакого ремонта в зале сейчас нет, проводить мероприятия там всё равно нельзя. В фойе, где проходила встреча, стульев для всех не хватало. Так что многие из тех, кто заранее записался на мастер-класс, не нашли для себя места и были вынуждены взбираться на пуфики или барную стойку, сидеть на лестнице, подпирать стены или просто уходить, выражая надежду, что в следующие разы такие интересные встречи будут лучше продуманы организаторами.
Андрей Звягинцев признался, что его несколько смущает название “мастер-класс”, и предложил сразу начать встречу с диалога и общения. Вопросов к известному российскому режиссёру накопилось немало. IA_RFI публикует видеозапись и расшифровку встречи с Андреем Звягинцевым.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я сажусь и сразу предлагаю начать диалог, потому что такого особенного выступления у меня нет, и вообще меня смущает такое название, как «мастер-класс». Потому что самого себя, как много лет назад, так и по сей день, считаю неспособным кого-нибудь чему-нибудь научить. Но если вдруг как-то случайно выйдет так, что мои ответы на ваши вопросы или какие-то комментарии, рассказы о том, как мы снимали тот или иной эпизод… А я так понимаю, что аудитория, в основном кинематографическая или театральная, стало быть, режиссёры, актёры и так далее, то наверняка, у вас будут вопросы, связанные с этим, и я с удовольствием на них отвечу. Вот. Поэтому это всё вступление. Давайте сразу начинать разговор. Вот первый вопрос – Ваш.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Нет микрофона? Во-первых, спасибо большое, что Вы к нам пришли. У меня такой вопрос. Я режиссёр монтажа, приходится пересматривать постоянно одну и ту же сцену, потом несколько сцен и так далее. Всё время что-то корректировать, добавлять новые сцены. Как Вы не устаёте от одного и того же материала, когда Вы с ним работаете?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Естественно, я могу говорить, исходя из собственного опыта и из того, что я предпочитаю делать, сидя за монтажным столом. Сразу скажу так – вот всякий день, например, мы монтируем, скажем, два месяца, практически каждый день по семь-восемь, если хорошо пошло, то можно и 10, и 12 часов монтировать. Правда, практика показывает, что если ты перешёл некий рубеж, и тебе кажется в ажитации, как, знаете, курице, которой голову отрубили, а она всё бегает куда-то… Вот когда в ажитации ты продолжаешь работу, как правило на следующий день ты чаще всего видишь, что это была ошибка и можешь резко переделать эпизод. Но всегда, практически с самого начала работы в кино, я держал за правило следующий способ, – второй, третий, 40-ой, 50-ый, 80-ый день, – всегда ты начинаешь с того, что садишься, включаешь самые первые склейки с самого начала и смотришь всё до того момента, до которого ты дошёл. Практически никогда я не делал так, чтобы монтировать эпизод с конца или с середины. Мы всегда начинаем с самого начала. Возможно, что только в этот раз с новой нашей картиной… Завтра у нас 41-ый съёмочный день, вчера был 40-ой. И вы видите, что случилось с этой погодной аномалией. Нам нужна была осень, и мы в общем отчасти встанем, «заморозим» проект и будем ждать потепления, потому что нам нужна осень, нам не нужен снег. Так вот, возможно, чтобы не терять время, мы начнём монтаж из середины. Меня это беспокоит, но я думаю, что мы с этим как-то справимся.
Почему сначала? Потому что вход в это почти медитативное состояние созерцательности – ты смотришь на то, что ты вчера сделал и то, что ты сделал неделю назад и так далее. Ты знаешь наизусть каждую склейку, но необходимо попасть в эту волну, чтобы почувствовать ритм дальнейшего. То есть бывает так, что ты доходишь до той точки, до которой ты домонтировал картину, и тебе совершенно ясно, что нужно делать дальше, ты должен просто не растерять, как бы эту чашу пронести.
Монтаж, ритм у фильма, даже его темп – абсолютно музыкальное содержание в себе имеет. Ритм киноповествования – это музыкальная форма. Без сомнения. Поэтому вдруг ворваться в 40-ую минуту и начать монтировать – это ошибка.
Мы так делали. Редко бывает так, чтобы ты увидел что-то новое. Ещё раз повторюсь, на 40-ой монтажный день ты всё знаешь наизусть, но это просто необходимая процедура. Ошибки могут быть. Ты к ним возвращаешься, ты можешь оставить эпизод нерешённым, понимая, что ты не состоянии с ним совладать. Он как бы больше, чем твои возможности его приручить, и ты двигаешься дальше, потом возвращаешься и так далее.
Когда мы заканчиваем монтаж, я как правило делаю паузу недели в две, и по сути как овощ лежу где-нибудь на пляже, просто забыв о фильме и совершенно вычеркнув его из памяти. Это сделать совершенно невозможно, потому что ты лежишь овощем этим, а у тебя там: «Ух, это надо поправить». Ты всё равно им живёшь, но этой дистанции в две-три недели как правило достаточно для того, чтобы ты вернулся и с трепетом, выключив свет в монтажной, включил фильм, посмотрел его до конца и совершенно ясно понял, что вот этот эпизод лишний, вот этот кадр длинный, а вот это надо перерешить. Вот как-то так. Я не знаю, что ещё могу сказать в связи с Вашим вопросом.
Но главное условие я уже высказал, такое метафизическое что ли чувство ритма. Потому что ты согласуешь не с тем, что нужно подать событие как-то по-особому, а ты согласуешься только со своим ритмом. Ты смотришь план и понимаешь, что он может ещё держать, а в какой-то момент понимаешь, что здесь уже всё, здесь уже холостой ход, здесь уже нет как бы напряжения, и тогда ты его склеиваешь. Ещё раз повторюсь, это исключительно, сугубо субъективный взгляд на вещи, потому что кто-то… Ну вот, скажем, по фильму «Елена» были такие высказывания, дескать, что это такое – первый план фильма, вот эти вот деревья, вороны, он же длится 10 минут. Я понимаю, что это фигура речи, но однако же 10 минут для человека нестерпимы. Хотя план этот длится 1 минуту и 20 секунд всего для человека он превращается в муку созерцания непонятно чего. Иные в аудитории, – не в аудитории, а в зале, – полагали, что это стоп-кадр, просто киномеханик не справился с плёнкой, она, значит, застыла. Для меня лично, там много событий происходит. Во-первых, есть звук. Во-вторых, там восходит солнце. Так на минуточку – куда уж более величественное событие восход солнца, да? Привычное для нас, но всё-таки событие, приход нового дня. Но для кого-то это мука, поэтому это исключительно субъективное чувство времени, времени, а значит, музыки. Убеждён, что монтажом не может заниматься человек, у которого нет чувства ни темпа, ни ритма, а вот музыкального что ли ощущения реальности. Исчерпывающе, да?
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Как Вы выбираете актёров на Ваши фильмы? Что для Вас главное?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Что главное? Главное, чтобы он был покладистый, и верил в тебя, что всё, что ты просишь даже абсурдное является как бы сказать (смеётся). Ну это на правах шутки. Вот так скажу Вам. У меня никогда не было такого… может быть, за исключением одного случая, одного. Это с «Левиафаном»: мы знали заранее с Олегом Негиным, с моим другом и соавтором и автором сценария, что у нас будет играть Мадянов. Мы это знали. Конечно, на пробах всё равно мы делали какие-то шаги в сторону, приглашали других актёров. Но ощущение было всё равно, что лучше него вряд ли кто-то сыграет мэра. Во всех остальных случаях – я никогда не исхожу из того, что я знаю, кто будет играть ту или иную роль. Никогда.
И вот я сейчас тоже разговаривал на эту тему с устроителями этого мероприятия, и тоже как раз о Косте Лавроненко зашла речь. Многих удивляет, что после его «Возвращения» у меня были такие мысли, что Лавроненко не может сниматься в следующем фильме никак. Во-перых, я хотел выскочить из этой, как бы сказать, из этой повозки. Вот она катится, «Возвращение», потом следующий фильм. Мне хотелось нарушить полностью систему координат. И я знал, что Костя не будет сниматься. К тому же там главная роль – в роли Алекса. Предполагал я, что это должен быть персонаж 33-35 лет. Он в «Возвращении» был 42-х лет. Прошло четыре года. Ему было 45. Пока я не пришёл к тому, – через пробы и через понимание, – что Алекс должен быть уставшим. По одному простому соображению – что та катастрофа, которая происходит с ним (вот если вы видели «Изгнание»), то, что с ним происходит, это когда нет пути обратно, когда все мосты сожжены. То есть ему построить новую жизнь довольно трудно, когда рушится всё. Вот. То есть он должен быть уже в таком состоянии. Это одно из соображений. А второе – что ли опыт жизненный, вот этот бэкграунд, который, как бы сказать, каждый актёр за собой тянет, и возраст в том числе нужен был более проживший жизнь. Так вот.
Это всегда пробы, пробы актёров, всех, кто попали в орбиту внимания кастинг-директора, потому что… Вот вам пример. В сценарии «Возвращения» было написано… там другие имена были Арчин и Давид. Арчин говорил Давиду, – Арчин это Андрей в «Возвращении», а Давид – Иван, – он говорил ему «толстый». И ассистент по актёрам мне говорит: «Ну что ищем толстенького 12 лет». Я говорю: «Вот забудьте все характеристики, забудьте про сценарий, вот есть мальчик без каких бы то ни было литературных описаний характера. Нам нужен мальчик 12 лет и 13-14. Значит, мы ищем в коридоре от 11 до 15. В этом коридоре – рыжих, льняных, полосатых, вот всяких, любых. Тем более в условиях фильма «Возвращение», где я для себя ставил задачу такую, что должны быть просто два, ну мягко говоря, выдающихся актёра 12 лет. Это очень трудно найти такое дело, но возможно. И они оба должны быть равновеликими по человеческому веществу, таланту, как ни назови.
И то же самое со взрослыми актёрами – как на «Возвращении», так и теперь. Мы просто встречаемся с актёрами, даём им сцены, те сцены, которые персонажа… как бы дают его диапазон что ли. Какая-то, скажем, тихая сцена, незначимая, и какая-то сильная сцена эмоционально. Может быть, три сцены из разных мест сценария. И по сути (только прошу вас, не берите это на вооружение) мы делаем так: без объяснения того, что это за персонаж, что с ним случится потом, без комментария о том, что это главный герой, и с ним произойдёт вот такое превращение, вот без этих всех нагромождений просто даём текст. И он должен просто прожить его, быть абсолютно живым, ровно так, как он это понимает – вот эту сцену, как он её почувствовал, чтобы не было предлагаемых обстоятельств, бэкграунда. Однажды, помню, на «Левиафане» кто-то на пробах говорит мне из актёров… Ну актёр существо такое – он, как и всякий человек, он оттягивает час расплаты, оттягивает (смеётся). «Давайте поговорим про этого персонажа. Скажите, я так понимаю, что он…». И вот он оттягивает. «Подождите-подождите». И потом, когда говоришь: «Уже пора. Давайте это сделаем уже». И тут: «А, была-не была». И играет. Так я взял и взболтнул: «Ну представьте, что он разговаривает со своим другом, с которым прослужил три года в армии». Он: «А, так он три года в армии прослужил! Так это же всё меняет». И меня это завело. Я говорю: «Друг мой, а давай мы сыграем эту сцену так, как если бы ты три года служил в армии. А потом мы тут же сыграем её так, как если бы ты не служил». И мы сделали этот эксперимент. Ровным счётом ничего не изменилось. Потому что, кроме внутренней работы…
Я сейчас на самом деле не хотел бы сказать, что актёру ничего не нужно дополнительно делать, домашнюю работу он делать должен, он должен приходить со своими эскизами, набросками или со своими идеями относительно персонажа. Но в тот момент, когда он входит в кадр, всё, что он должен сделать от команды «Начали» до команды «Стоп» – быть абсолютно правдивым. Без перспективы, что мой персонаж потом станет этим. Это в театре актёр является полноправным. Как бы это обидно ни звучало, но я может позже скажу, что здесь нет никакой обиды – в театре актёр является полноправным соавтором. Есть даже анекдот, только он такой длинный, что я не успею его сегодня рассказать. Интересный, надо сказать, анекдот. Но посмотрим, может быть, как пойдёт.
Так вот значит, он в процессе работы над ролью, он знает… Как Михаил Чехов говорил – Хлестаков в первом появлении уже сидит на бричке с ковровой дорожкой и под аплодисменты чиновников этого уездного города уезжает оттуда. В первой сцене – он уже с этим знанием. И там, когда он в финале уезжает победителем, он должен помнить, что он был голодный. То есть он должен нести в себе, в ядре роли всё содержание этого персонажа. В кино другая история. В кино я даже позволяю себе не отдавать сценарий актёрам полностью. Была б моя воля, я, может быть, сделал эксперимент, если готовы на это пойти актёры – знать только ту сцену, которая сегодня снимается. Потому что знание актёра о перспективе, оно, как бы сказать, нагружает его лишними смыслами, и он начинает играть уже здесь, зная, что в финале ему достанется. А здесь он ещё не знает, что с ним будет.
И я всегда привожу пример с Леной Лядовой. Вот она не читала сценарий. В Каннах, когда мы были на показе мировой премьеры, Лядова и… нет, ну Надя Маркина, конечно, читала сценарий, потому что из сцены в сцену она насквозь идёт в фильме. А Лядова не знала сценарий. Он только на экране увидела, что сделала Елена. Я говорю: «Понимаешь, представь себе, если бы ты знала, что, как бы ты произносила эту фразу, когда она говорит «Я люблю Володю». Надежда Маркина говорит: «Я люблю Володю». А ты отвечаешь ей: «Ага, до смерти». Представь себе как бы ты говорила эту фразу. А тут у тебя нет этих вот дополнительных вериг, которые мешают на самом деле быть лёгким, полётным и так далее». Понимаете?
Я ссылаюсь ещё на мастер-класс Кшиштофа Кесьлевского, у которого… точнее не у него… есть книжка, её опубликовали после встречи с ним студенты, которые занимались «Сценами из супружеской жизни» Вермана. И вот он одному студенту сказал: «У Вас небольшая сцена, там три с половиной-четыре минуты, а Вы пять раз сказали актёру, что вот это очень важный момент». Он говорит – не может быть, чтобы в одной такой короткой сцене было столько важных моментов. В целом фильме может найтись один, просто маленький, чрезвычайно важный момент, но даже о нём лучше не говорить, потому что вот эта мера ответственности – она может «раздавить» лёгкость, с которой открываются какие-то внутренние резервы, когда ты можешь превзойти самого себя и сделать что-то такое, что не запланировано. Понимаете? Потому что, как известно…
Много я уже сказал… То есть с актёрами у нас всегда идут пробы-пробы-пробы. Но представьте себе большую какую-то плоскость, и в ней вмятина под шар. И ты запускаешь множество шаров, и только один попадёт туда без зазора. И это будет его место. И никаких предпочтений, никакого лицеприятия: «Вот этого надо, потому что он…». Только исключительно честный разговор с тем, что ты являешь собой на сегодняшний день. Вот и всё. Мне мой кастинг-директор однажды вернула мою фразу, значит, она говорит: «Ты помнишь…». Это Гета Багдасарова, с которой мы работали на «Возвращении» и на «Изгнании» половину проекта. Она привела однажды актёра на пробы. И я говорю: «Гета, а что это? Почему именно вот его ты привела на эту роль?». Она говорит: «Он из Новосибирска». Я, значит, вспылил, говорю: «Гета, я снимаю кино, а не родственников». Вот это должно быть, мне кажется, правилом. Никаких привязанностей, никаких родственных связей, никаких компромиссов с замыслом.
Потому что замысел превыше всего. Вот и всё. Просто нужно употребить какое-то время, значительное чаще всего, чтобы найти того единственного, кто и есть персонаж твоего фильма.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Я хотела у Вас спросить про персонажей. Мне кажется, что сначала в «Елене», а потом в фильме «Левиафан» возник герой, точнее героиня, которая потом, когда я ходила смотреть другие картины, она следовала уже как архетип. Я имею в виду образ такой мрачной домохозяйки, с таким циничным ироничным отношением к жизни. Такая несчастная, которая ищет своё счастье и пытается найти в своей не получившейся жизни кусочек радости. Я имею в виду Елену Лядову в «Елене». А потом в «Левиафане» женщина, которая только в бушующем море нашла своё спокойствие. Потом этот же архетипный персонаж возник в «Географ глобус пропил» и дальше под каким-то углом – измена. Что подтолкнуло Вас к возникновению такой героини? Почему Вы решили, что она может стать рупором каких-то идей – такой незаметный, серый персонаж, такая женщина? Это актриса Вас подтолкнула? Это Ваше знание жизни? Что явилось каким-то таким первоимпульсом?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я уже, может быть, говорил о том, что я не достаточно хорошо знал Лену Лядову… так нельзя сказать, потому что всего лишь навсего мы с ней озвучили, переозвучили актрису Марию Бонневи. Тогда мы с ней впервые познакомились. Она прошла кастинг, причём такой, знаете, иезуитский. Совершенно инкогнито. Я попросил ассистента по актёрам давать мне только голоса, подложенные под изображение Марии Бонневи. Актрисы озвучивали какую-то сцену. И я просто смотрел. Опять-таки, чтобы не быть предвзятым, чтобы не знать, что это вот такая-то актриса, чтобы просто слышать голос, как бы вслепую смотреть на это. Из 70, наверное, голосов… Мы делали долго очень этот кастинг, потому что я знаю по себе, когда был актёром, знаю, что это такое – когда тебе «пришивают» чужой голос. Это мёртвенное, на это невозможно смотреть, и это всегда убийство вещества, которое на экране, таким же достойным, возможно, веществом вот этих обертонов, но совершенно не сращиваемые вещи. Это очень трудно – найти голос. Мне так кажется. И в результате мы с ней познакомились. Она озвучивала Марию. То есть я знал её уже достаточно хорошо, потому что где-то неделю мы звучали, может быть, дней пять.
И когда готовились к фильму «Елена», я даже о ней не думал. То есть я не думал, что Лена Лядова – кандидат на роль Катерины. Настолько не думал, что когда Эля Терняева, мой кастинг-директор, её привела, даже подумал: «Ух, ясно… Леночка, привет. Проходи. Ну, – думаю, – сейчас мы потеряем какое-то время». Потому что я не видел её в этой роли. Возможно, потому что плохо знал.
И вот она сделала эту пробу, как я говорил про этот шар – совершенно без зазора. Она вот просто пришла, и это пришла Катерина. Мне практически ничего не нужно было делать, она сыграла сцену в кафе. Вот эту, когда жалко у пчёлки – вот эту сцену, первую сцену встречи с Еленой. И дальше я повторюсь, скажу о том, о чём не раз говорил, что поскольку роль небольшая, – у нас было шесть или семью съёмочных дней с ней, – мне было на седьмой день, когда наши отношения, как бы сказать… Мы понимали друг друга, и уже пора было заканчивать. У меня было ощущение «недо» – недовоплощённости что ли. Мне хотелось бы ещё с ней поработать и сделать ещё что-то. Но роль незначительная. На шестой день, помню, сцена у адвоката, и мы расстаёмся. И я помню, объявляют, как это заведено в киногруппах: «Сегодня у нас крайний съёмочный день у актрисы Лены Лядовой, поблагодарим её». И вся группа аплодирует. Хороший ритуал, надо сказать. И мы прощаемся, и я думаю: «Эх, жалко». И вот это вот ощущение «жалко», оно осталось во мне. Это 2010 год съёмки.
И в 2012 году мы ищем актёров на «Левиафан». Я понимаю, что её обязательно нужно будет пробовать. И у меня ощущение, что у неё могучий потенциал актёрский, потому что она, конечно, очень талантлива. Она делает удивительные вещи. Она, как бы сказать, создаёт такие… Но вот сейчас актёры, которые работают в театре или учились в театральном, меня, может быть, не поймут, но киношники должны понять…
Кино – это язык состояний, состояний, которые перетекают из одного в другое, а не предлагаемые обстоятельства. И здесь всё-такие права другие, у кинопространства другие права, у актёра и его вещества.
И вот она делает удивительные вещи, в частности в сцене, когда они возвращаются после пикника и сидят, точнее – Вдовиченков лежит на диване с разбитым лицом, она сидит над нимЭ то просто невероятно. Я не понимаю, как она это сделала. Потому что порою ты даже не можешь артикулировать задачу, потому что она больше, чем можно сказать. И когда человек это чувствует, тебе всё, что остаётся, это просто не мешать в воплощении. А когда оно ещё может повторяться из дубля в дубль и ещё усиливаться вдруг… Когда дольщики плачут – это, я вам скажу, серьёзное дело. Вот у нас сейчас на нашей картине, была сцена такая очень-очень мощная, и вот там Юра Доленко, наш дольщик, кепкой так прикрыл лицо, говорит: «А… давайте». Вот и не более. Это мой вам ответ.
Никаких архетипов, никаких идей. Актёру меньше всего нужно думать об идеях. Я сейчас говорю, ещё раз повторюсь, об актёрах в кино. Как только актёр начинает думать об идеях, что я здесь несу вот такую-то задачу, он сразу перестаёт быть живым существом, он просто рупор каких-то идей – своих или автора.
Всё, его круг малый. Малый круг задач – вот сделать эту сцену правдиво, точно, так, чтобы режиссёр, который говорит, даёт вето «Стоп. Снятно». Значит, режиссёр – оценщик в этой ситуации, он – мерило правды. Бывает и такое, что актёр выкинет коленце, а режиссёр говорит: «Ой, снято! Как хорошо!». Иной зритель смотрит и думает: «Господи-боже мой, как это плохо сыграно». Поэтому вот этот критерий, конечно, за режиссёром – он решает снято это или нет, правда или нет, он сам верит в происходящее или нет. Конечно, добиться абсолютной правды, тотальной, какой-то документальной, часто очень трудно, поскольку это всё-таки художественное кино и художественный мир. Но вот я стараюсь двигаться к тому, чтобы у зрителя было ощущение, что всё было на самом деле, что это всё происходит с ним или с его соседями. Поэтому у меня не было задач создать какой-то архетипический образ, судьбу женщины, какую-то обездоленную или ищущую себя. Ясно было, что в сценарии Лиля была не удовлетворена своей жизнью – это было очевидно. Но и Лена Лядова, естественно, читая сценарий, понимала, что она где-то не здесь, её место не здесь. То есть это человек, который, можно сказать, с такой несчастной судьбой. Она пытается вырваться, пытается найти себя, что-то понимает надо с этим делать, понимает, что оступается, понимает, что действует неверно, понимает, что она задыхается в этом. Вот. Не более того. Никаких архетипов. Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: <Неразборчиво>
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Трудно рассказать, какая атмосфера на съёмочной площадке, потому что атмосферу можно только почувствовать, рассказать о ней невозможно. Но мне кажется, что мы… Но мы не кричим друг на друга. То есть на площадке это просто не позволено вообще никому. Не может быть так, чтобы актёра унижали, или кому-нибудь из группы говорили: «Чёрт тебя побери, куда ты понес камеру?!». Это просто исключено. Это не может быть. Произносятся громко только команды, чтобы все услышали. «Начали» и так далее.
В этом смысле атмосфера доброжелательности, уважения и любви друг к другу. Любви в подлинном смысле слова, потому что по-другому назвать такой союз, который связывает нас уже много лет, ну уже 16 лет. Я знаю Мишу Кричмана уже 16 лет. Нет ни одной картины, которую я бы снял без него. В этом просто нет нужды, потому что у нас абсолютное понимание. Разумеется, бывают дискуссии, споры, бывают какие-то необходимости как бы что-то пробить что ли, стену, но она как правило из папиросной бумаги, что называется, непонимание, неслышание. Я уже тоже и на этот вопрос отвечал – говорить об изображении практически невозможно, если нет языка, как бы общего для всех примера. Некоего объективного языка, это всегда мир какой-то живописный. Я рассказывал много об этом. Мы начали с Хоппера (Эдвард Хоппер – американский художник. Прим. IA_RFI), когда искали визуальный ряд для «Изгания», а потом вдруг как-то наткнулись, пришли к Эндрю Уайету. Благодаря Эндрю Уайету мы нашли Молдавию, с её раскатистыми, такими текучими холмами, жёлтыми. Я даже помню, что мы попали туда в августе или сентябре. В сентябре, наверное, да. И это так нас очаровало, что это было полное ощущение Хоппера. Все здания, которые участвуют в этой картине, они все построены, как декорации. Естественно, никакой Молдавии в архитектурных решениях там нет. Это всё-таки европейская, голландская, скорее, архитектора, которая перекочевала в Америку и так далее. Поскольку Эндрю Уайет и так далее. Вот это всё как бы такой мир срединный. Люди говорят на русском и кольца носят на правом безымянном пальце, но мир неузнаваемый что ли. И время, и пространство. И это вот шло от Эндрю Уайета. И когда ты находишь какое-то общее визуальное решение, может быть, даже ритм, который тоже диктует… Вот я уже говорил, там музыка какая-то. Вот я уже говорил, чувствуешь, что я не знаю, у меня была такая идея, что Гленн Гульд будет у нас в «Елене», и ты предлагаешь это услышать, или вот эти изобразительные ряды выстраиваешь. Мы называем это референсами. У нас в комнате большая стена, которая увешана фотографиями или живописными какими-то отсканированными изображениями, которые нас питают, которые настраивают нас на общий лад – каким будет визуальное решение. Или какие-то традиции, уже ставшие внутренними. Кричман говорит: «Ну когда мы уже на плечо камеру поставим?». А я не могу, не верю в это изображение. Не могу ничего с собой поделать. Поэтому я говорю: «Миша, будем как всегда ставить, как в купе. И смотрим вот туда». Хотя вот в этой картине у нас много движений есть. Но не с плеч, не ручная камера. При этом я могу смотреть кино братьев Дарденнов. Обожаю Дарденнов, которые решают изображение таким образом, но мне самому как-то органичнее всё-таки какая-то классическая или традиционная… то есть я… По сути, когда я думал о том, что является изображением… Нет, не что является изображением, что является для меня мерилом правды в изображении, вот когда я верю в кадр – это когда нет субъективного взгляда камеры, то есть автора. Это всегда должно быть наблюдение, и если мы переводим камеру куда-то, мы не можем просто вот так держать план на общем плане зрителей, и почему -то вдруг перевести её вот туда. Это против правил. Я не верю в это изображение. То есть обязательно должна быть какая-то причина, должен быть непременно какой-то повод, либо человек прошёл – вынес нас туда. То есть какой-то, как бы сказать… Ищем органическое что-то. Завтра у нас будет план – весь день мы снимает один план. Весь световой день – с 7:00 утра до 16:30. Я уж не помню, во сколько там закат. И вот там есть одна трудность, потому что нам нужно… ну вот её я думаю решить завтра вот так (щёлкает пальцами), что называется, по наитию как-то. Бог выведет, я надеюсь, подскажет идею, как это сделать.В пустом пространстве вдруг взглянуть туда, куда надо бы нам взглянуть. Или скажем вот на уровне глаз ракурсная съёмка, мне она кажется неорганичной, но это всё вот какие-то болезни ума. Собственные тараканы. Я не представляю, как встать с камерой снизу и посмотреть на персонажа там снизу вверх. Есть классическая форма, что героя делает ракурс. Вот он такой весь прекрасный. Камеру нужно опустить вниз, и он такой весь из себя герой, высокого роста. Как Аль Пачино, скажем, метр шестьдесят, вдруг становится героем, потому что чуть пониже на него взглянули, или там каблук он высокий себе надел. Я помню в фильме «Жизнь взаймы». Вот. На уровне глаз, или чуть выше, если герои сидят. То есть мы смотрим на персонажа всегда на его уровне. Если это ребёнок, то мы смотрим на его уровне. Если нужно уложить эти два объекта в один кадр, то мы плавно, почти незаметно опускаемся гидравлическим этим… Я сейчас к кинематографистам обращаюсь. Значит, на телеге есть такое устройство, что оно позволяет тебе с любой нужной скоростью опускать, очень плавно, незаметно, камеру. Но это вот, я повторюсь, какие-то тараканы. Не более того. Потому что мир знает кучу других примеров, и это восхищает и так далее. И Урусевский то, что творил. Это же революция просто была в изображении. Вот. Но у каждого свои. С художником и с оператором, это, конечно, главное, ядро создания не только изображения, но вообще смыслов изображения, каких-то токов, которые лежат внутри, там метафизических каких-то идей. Вот сейчас мы столкнулись с невероятной проблемой, с тем, что снег выпал, и у нас просто катастрофа. Мы как-то там сгруппировались, сняли то, что можно снять в интерьерах, а один эпизод, мне кажется, всё-таки нужно дождаться осени, и снять его снаружи. И вдруг пришла вот такая идея – что этот персонаж у нас всё время обретается в доме, и вот мы вынесли его наружу, в парк. И эта идея нравилась. Но мы уже сняли всё в павильоне. И сейчас предполагали, что восстановим павильон, там выгородку, угол в кухне, и снимем этот эпизод там. Но вдруг пришла идея, что это может быть другой интерьер, и вот в частности – магазин. Вот мы сейчас ищем магазин детской одежды, сегодня мы это решим коллегиально с художником, оператором совместно.
Андрей Понкратов, который является художником-постановщиком уже вот на четвёртой картине. Начал на «Изгнании». Он был совсем юным, юным по моим меркам, человеком, потому что вот ему недавно исполнилось 39 что ли. А вот 11 лет, как мы «Изгнание» снимали, ему даже 30 не было. Как он потом рассказывал, он боялся просто войти в нашу комнату, когда мы его пригласили. Нам его порекомендовал один оператор. И он говорил: «Ну что я будут там делать после ребят, которые «Возвращение» сняли». И вошёл. И не просто вошёл. Просто я считаю его невероятно-невероятно талантливым художником. Человеком, которому по плечу любая задача, чем больше, знаете, построить… не знаю, кинотеатр, Театр киноактёра отстроить – вот ему эта задача по плечу, создать такую декорацию. И чем она серьёзней, чем она амбициозней, чем она мощней – для него вообще нет ответа «нет». То есть я говорю: «Андрей, можем?». Он говорит: «Да, конечно». То есть для него нет задач невыполнимых. Могучий человек просто. Невероятно. Я, кстати, очень сильно удивлён, что ни разу ни одна работа Понкратова не была выставлена как лучшая работа художника. Потому что это работа, может быть, незаметная, но объём того, тех материалов, которые он перерабатывает… Но это просто, я говорю, это такой, знаете, ренессанс-мен. Такой человек, который себя сделал и продолжает развиваться. И очень жизнеспособный его талант невероятный. Я очень его люблю за тот невероятный объём ресурса что ли, энергии и таланта. Вот. Я не знаю, как ещё можно рассказать о том, как мы это всё собираем. Но приходишь, выставляешь кадр, уже решённый заранее, за полгода. Ты знаешь, где у тебя стоит что – где камера, где актёры, где чего. Вот ты выставил камеру, смотришь в монитор и вот ходишь. Там чашку чая, кофе и думаешь. И приучаешь себя к тому, что это единственно верное решение. Пробуешь потом поменять, если вдруг что-то не складывается. Но паника возникает в тот момент, когда ты вдруг видишь, что не работает изображение, что чего-то нет, там глубины, перспективы, или я не знаю, почему-то он не работает. Такое бывает, редко, но бывает. И мало-помалу вдруг, войдя уже в процесс репетиции, актёры вообще это всё одухотворяют, оживляют, вдруг жизнь начинается. Сначала сидят там второй режиссёр, а потом садятся актёры, и начинается жизнь. И вот они перемещаются в мизансцене, и ты видишь, где ошибка, где там надо что-то перестроить, перерешаешь, ну и так далее. Это вот всё рождение изображения. Про Мишу не стану говорить, я уже много сказал. Это просто необыкновенный человек, меру таланта которого я даже не возьмусь описывать. И мой большой друг, и человек, который для меня является моим жизненным приобретением. И мы согласно мыслим, у нас нет противоречий. То есть не возникает спора. Мне кажется, что если мы придём на какое-то пространство, о котором мы ещё ничего не знаем, не было освоения, то мы точно поставим камеру в одно и то же место. У меня вот такое чувство. Может быть, я слишком самонадеян. Но отдаю ему пальму первенства, естественно, потому что он визуалист просто от бога. Я помню, как я выбрал его, не знавши его. Я искал операторов на три картины короткие. На три картины. Я хотела, чтобы короткометражки мои снимали разные три оператора. И вот одного я уже знал, второго мне предложили, и согласился с тем, что интересный парень. А третьего – меня познакомили с ним, она дал видео своё. Всё, что там было – это музыкальное видео какое-то, клипы 1990-х годов. Потому что знакомство было в 2000-ом. Вот. Музыкальные клипы, которые я просто не люблю органически, потому что это набор изображений. Я не понимаю, что это такое. То есть к кино это не имеет никакого отношения. А потом было видео, где он своей женой Наташей путешествует где-то там в Испании. Вот. И это была ручная камера. Он снимал её, в комнате, в гостиничном номере, потом они спустились куда-то, шли по улице, он снимал с руки и себя, и её. И я понял, что я вижу это пространство, я в него попадаю, я соучаствую и так далее. То есть меня зачаровало вот просто такое домашнее видео. Мы с ним познакомились, и дальше уже, вы знаете, работали вместе. Я даже отказался от идеи, потому что, к счастью, первая же картина, первый из этих трёх фильмов был тот, на который я предположил, что Миша будет оператором. Мы, конечно, ссорились. Мы, конечно… Значит, когда мы сняли уже первую новеллу, он мне сказал: «У меня ведь, Андрей, был такой день, когда я шёл на последнюю с тобой встречу (а мы уже процессе подготовки). Я пришёл, вот если что-нибудь пойдёт не так, я просто скажу «Всё, до свидания». Я говорю: «Миш, вот то же самое. Я шёл на последнюю встречу». А он говорит: «Я помню. Ты такой был нахлобученный». И вдруг как-то лёд этот растопился. Вдруг как-то вот эта, как бы сказать, стена дезориентации, отсутствия коммуникации, вдруг растопилась как-то, и потекло. А уже на съёмках, я понял, что просто с ним хочу работать дальше. Извините, что так долго и изнурительно отвечаю на такой простой вопрос.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: У меня вопрос по поводу фильма «Левиафан». Как родилась задумка финала фильма? Я думаю, вопрос, верующий ли Вы человек, очень личный. Но поскольку Вы вступили на эту территорию, я могу, наверное, задать вопрос о воцерковлении. Как Вы готовились к этой сцене? И второй вопрос, как к человеку, который живёт в России. Я не ставлю под сомнение факт сращивания нашего государства и церкви, но верите ли Вы в то, что чиновники действительно готовы сломать столько копий, ради местоположения храма? Вот если бы там были прииски… Мне очень интересно Ваше гражданское мнение.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Значит, начнём с чего. С приисков. Вы знаете, что позавчера. Позавчера, по-моему. Я читал эту новость сегодня. Позавчера, да, вломились в дома, в воскресенье, с болгарками. Какие-то маски-шоу, в общем устроили людям, активистам «Торфянки» (парк в Лосиноостровском районе Москвы. – Прим. IA_RFI), которые против того, чтобы в этом месте… Не читали этот текст? По-моему, в «Медузе» он опубликован с деталями. С деталями о том, что… хозяева квартиры говорили о том, что приехал канал НТВ снимал всё, кроме как раз икон, которые развешаны в этом доме, выдавая этих людей за неоязычников и так далее. Но вы знаете, наверное, эти события?
АВТОР ВОПРОСА: Нет.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: …Что людей с собаками выводили на глазах у их детей, малолетних детей, уводили куда-то, увозили в отделение. В связи с тем, что они были активистами вот этого движения против строительства храма вот в этом месте… там парковая зона «Торфянка», где-то в общем в Марьиной роще, или что-то такое. Нет, не слышали этого? Это история, значит, с оскорблёнными чувствами верующих.
Значит, про финал, откуда он вообще возник, почему я так, как бы сказать, верю в то, что есть такие чиновники и так далее. Какой же сложный Вы вопрос задаёте. Дело в том, что мы все живём в одной стране, но ощущение такое, что, конечно, в разных. Потому что порой игнорируем какие-то вещи, не замечаем их. Вот нам совершенно всё равно, что Ильдара Дадина избивают, издеваются над ним, мучают его где-то там в колонии. Мы как бы живём в своей жизни и пропускаем это, это мимо нас проходит. К тому же эта информация не в общем доступе там и так далее, или как-то искажается.
Я вот всё думаю, с какого конца подойти к этому ответу на Ваш вопрос.
АВТОР ВОПРОСА: Воцерковлённый Вы человек или нет?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я не воцерковлённый человек, я крещёный человек. Но я не воцерковлённый. Давайте издалека начну. Давайте с того момента – откуда вообще взялась эта идея, история, значит, «Левиафана». И это очень хорошо, что мне можно ещё раз к этой теме вернуться, потому что очень много комментариев было относительно того, что вот американскую историю взял, перенёс на нашу почту. И, как бы сказать, создал какой-то такой поклёп на нашу родину. Действительно эта история началась с того, что я услышал… что я услышал из уст переводчицы, с которой мы работали в Америке над короткометражкой, как она между делом рассказала историю Марвина Химейера, у которого, значит, отняли землю, которая, он полагал, принадлежит ему и только ему и так далее. Выдворили его из своего дома фактически, он соорудил… (Вы знаете эту историю, я не буду её рассказывать?) трактор и снёс там в городе несколько зданий. Она меня настолько поразила, эта история, что я подумал, что её можно было бы реализовать. Предполагал, что это могла бы быть и американская история, ну то есть воссоздать, что называется, «мокьюментари» или как это называется по событиям.
Потому понял, что я ничего не знаю про эту жизнь, про американцев. Что я о них могу знать? Я не живу там. И вдруг догадался, что эта история абсолютно вечная, она могла случиться где угодно. И суть происходящего, – вот эта вот несправедливость, против которой восстаёт человек, – она абсолютно универсальна. Отсюда появилась мысль о том, что этот фильм может рассказывать и о нашей истории. К тому же примеров тому… Вы говорите о том, что чиновник, неужто он такой, значит, доконает человека за какие-то пустяки, а не прииски. Так вот я скажу вам, что когда мы занимались работой над этим сценарием, мы погрузились в эту тему – вообще судебная практика в России, что это такое, кого сажают, за что сажают. И очень много историй услышали с Олегом вместе. Но Олег так вообще, он погрузился в эту тему очень серьёзно. У него просто волосы шевелились от того ужаса, который происходит за этими стенами в буквальном смысле. Мы просто не хотим этого замечать.
Это я возвращаюсь к Ильдару Дадину. Вы знаете о том, что человек этот сейчас в колонии, его избивают и мучают бесправно? Вы знаете об этом? Вы слышали, да… Так вот, значит, те истории, которые мы услышали – наша это «софт», мягко говоря. Рассказывать их сейчас не имеет смысла, но поверьте, что один из примеров… Это долго рассказывать в деталях, я не помню ни имён, ни фамилий, ни где это случилось и так далее, но чиновник, которому досадил один сопротивляющийся… Это был гаражный кооператив, и один молодой человек отказывался уступить это место под гостиницу. Должны были снести 40 гаражей, а он отказался. Вот он отказывался, в результате он оказался в тюрьме, его законопатили так надолго… И вот этот самый чиновник, которому он досадил, довёл это дело до самого края. Природа человека… Слушайте, почитайте пьесы Шекспира, знает немало таких примеров, где человеческая природа выказывает себя в самом не лучшем виде, в самом не лучшем. Так что для меня нет никаких… никаких, что называется, компромиссов или натяжек по части того, каким наш мэр является, и что он делает, и в какой мере он идёт до конца. Что же касается финала…
Да, я помню, Вы сказали, что «Россия-24» и учитесь у Никиты. Я помню, что Никита Михалков тоже высказывался относительно финала. Ему он тоже не понравился, я даже догадываюсь, почему. Послушайте, это всё-таки с позволения сказать произведение искусства. Оно имеет право на метафору, которая, скажем так, демонстрируя… сейчас, дайте найти слово… демонстрируя нечто, что кажется тебе преувеличением, на самом деле попадает в самую суть. Вот так работает образ. Он, как бы сказать, не являет себя в полной мере чем-то… как бы это выразить-то. Это то, что заменяет твои слова. Есть у тебя чувство, что это так, но ты не можешь это ничем доказать, только разве что какими-то примерами. Кстати, уже после «Левиафана» псковского, есть пример. Вот это меня поразило.
Уже после того, как был готов фильм, во Пскове мы показывали картину. Я даже понял, почему во Пскове нам отказали в показе. Один там доброход просто взялся и показал картину на свой страх и риск дважды. А директор кинотеатра вроде как сослался на то, что картину никто смотреть не будет. И вот нам… я совещался с аудиторией там, и нам один журналист сказал, что у нас здесь во Пскове есть история, которую мы даже зовём «псковским Левиафаном». Когда у человека отняли всё… Я думаю, то сейчас это будет какая-то политическая часть дискуссии, я бы её свернул – просто отсылаю вас к «Новой газете». Не знаю, читаете ли вы такое издание или нет. Вот отсылаю туда, если вы там кликнете «Псковский Левиафан» и прочтёте то, что случилось с предпринимателем, молодым человеком, кстати, воцерковлённым и абсолютно верующим. Вы увидите, может быть, откуда черпаю я свои эти идеи.
Мало того, я ещё больше скажу. Сейчас я, конечно, буду выставлять чужой щит, но на сайте «Православие и мир», – по-моему, так он называется, – было четыре публикации после того, как разразился этот шум, и все четыре были, скажем так… Одна просто от монаха, который увидел в этом фильме и в этой концовке просто какое-то предвестие и знак того, что действительно с нами происходит. И вот в этой статье… или в этой статье или в какой-то соседней… Их там четыре было. Все четыре – люди воцерковлённые и верующие, и мало того священники вступились за картину. Один из них употребил такое слово «двойник церкви».
Если вы будете внимательны к фильму, то вы увидите, что речь идёт именно об этом. О двойничестве, о двойнике, то есть о подмене, то есть о самозванстве, то есть об искажении прямой линии. О язычестве. Ну вот об этих категориях. Человек, облачённый в рясу не всегда является слугой божьим. По-моему, это очевидно. Это утверждение… доказывать его, приводить какие-то примеры, просто нет смысла. Так что вот. Для меня это было чрезвычайно важно. Повторюсь, я не воцерковлённый человек. Я верующий человек, в смысле – я крещёный человек. Не воцерковлённый, но крещёный. Крещёный, как и все: мне 52 года, я крещён был в детстве, мне было два года. Это было тайное крещение. Крестила бабушка по отцовой линии. Когда я узнал о том, что я крещён, мне было 25 – возраст, когда люди задумываются об этих вопросах. Мне было даже очень досадно, что за меня этот вопрос решили, потому что я не мог вступить в этот завет с богом. Такие были мои размышления. Я даже ходил в храм и говорил со священником, он сказал: «Не надо. Всё уже. Нормально». Я понял, что это не осознанный выбор моего сердца, не выбор, под которым я подписываюсь, понимаете? Вот у меня было это ощущение досады. Но в конце концов я могу сказать, что мне мой опыт жизненный что ли… мне кажется, я могу отличить сокола от цапли, когда священник… Помните скандал, но скандал такого узкого формата – там кто-то повозмущался из интеллигенции. Кто-то из священников, не помню кто, высказался о том, что дескать убийство это нормально. Вы помните этот скандал?
ОТВЕТ ИЗ ЗАЛА: Чаплин.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Чаплин. Вот как бы это сказать, они люди. Такие же люди. И я такой же человек, как они. И имею полное право видеть и свидетельствовать. Вот всё, что я могу ответить на Ваш вопрос.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Добрый вечер! Андрей Тарковский писал, что «Разглядеть лицо будущего фильма невозможно. Да и сценарии умирают в самом фильме». А как развиваются Ваши собственные замыслы?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Хороший образ, потому что действительно одно дело сценарий, потом он вдруг становится чем-то другим, чем-то третьим. То есть это как бы повод для фильма, мотив что ли, я не знаю. Материал. А фильм уже реализуется, конечно, на площадке. Даже в меньшей степени в монтаже. А всё-таки на площадке.
Как я уже говорил, ты выставляешь кадр и ходишь вокруг него, и ходишь, и ходишь, и ждёшь. Ждёшь этого, с позволения сказать, прихода, когда ты вдруг понимаешь, что вот оно вот это есть, это надо снимать. Оно есть, оно живёт и дышит. В монтаже лично мой опыт говорит о том, что… я даже однажды выразился так, что по сути это просто выбор дубля. Потому что фильм уже склеен заранее, там уже понятно, какой кадр следует за каким, ты уже знаешь это заблаговременно. То есть мы не монтируем, как это делает, скажем, документалист. Он снимает фактуру, он снимает всё, что есть, а потом из этого складывает то самое лицо, которое потом явит себя готовым-смонтированным. В художественном кино, в частности у нас, таких вот случайностей не бывает. Мы знаем точно заранее, что будет и как, и как должно быть. И добиваемся просто качества, идеального качества. Не всегда удаётся, потому что это жизнь, скажем так. Солнце вдруг взошло или наоборот – снег посыпался. Или актёр по какой-то причине не вошёл в это состояние транса, или я уж не знаю, как назвать это. Слияние полное своего организма, вещества человеческого с реальностью – оно не является подлинным. И ты идёшь на этот компромисс и говоришь себе: «Сегодня на девятку». У меня было ощущение, что актриса одна, например, справится. Я был уверен, она сделала просто потрясающие пробы. А на площадке долго-долго-долго много делали дублей и не добились. Это очень хорошо. И возможно, что когда будет эпизод склеен, это будет даже лучше, чем я сейчас об этом думаю. Но не в десятку, не в яблочко. Вот… просите, я увлёкся.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Как Ваши собственные замыслы рождаются? Первично. В какой атмосфере душевной, я не знаю. Какая погода?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Смотрите, возвращаясь к «Левиафану». Понятно дело, что я услышал эту историю с Марвином Химейером, меня просто поразил этот жест его, этот поступок, этот такой индивидуалистский что ли выпад в адрес реальности, которая создана, и по какой-то причине мы ей подчиняемся, государство, которое тебя давит и делает из тебя просто раба. Вот этот протест. И было ощущение, что необходимо высказаться. Просто мощная вещь – надо сделать её. Потом, – я уже, наверное говорил, наверное, вы знаете, – натолкнулся на новеллу Клейста «Михаэль Кольхаас». Ну просто зеркальное повторение этой истории, истории с Химейером, подлинной истории в 2004 году случившейся с этим американским, ну не фермером, а сварщиком. И стало понятно, что эта история может быть где угодно. А к тому моменту уже накопились какие-то ощущения, впечатления от того, что происходит в стране…
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Наблюдения.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Да, наблюдения, конечно. Читаешь газеты, смотришь, видишь, как ведёт себя государство. Ты же постоянно с этим сталкиваешься. Любой чиновник… Ну понятно, что это постоянное общение с этим. И естественно просто вот таким вот образом. Не в тиши кабинета, не под музыку, а ты просто понимаешь, что это возможно перенести эту историю сюда. И скажу честно, у нас даже Николай садится на трактор. У нас собственно, так скажем, атавизм этот от первого сценария, – это большой ангар, где он починяет автомобили, гигантский. Во втором отделении стоял трактор. Мы собирались покупать три таких трактора: у одного спилить башню, другой замуровать, третий там ещё что-то там отпилить для разных способов съёмки. И в последний буквально момент, за полгода до съёмок, – нет, за год, конечно, – не нужно ему мстить, не нужно ему садиться на трактор. Потому что это спустит, как колесо, всё то напряжение несправедливости и невозможности воплотиться. Невозможности себя осуществить, доказать свою правоту. Маленький человек, который не в состоянии бороться с молохом этим. И мне показалось, что это гораздо интересней, правдивей, потому что отказывать зрителю в этом хэппи-энде, утешиться здесь в зале. Именно так построить повествование. Я не знаю, как ещё ответить Вам. Это работа. Живёшь, накапливаешь какие-то впечатления, какие-то встречи – с текстом или с реальностью, или ещё с чем-то. Наталкивает тебя на такие мысли. И не только меня. И Олег Негин в этом принимает самое активное участие.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: <Неразборчиво>
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Ну это громко сказано. Собираюсь снимать несколько лет, потому что «собираешься снимать» – это когда продюсер дал отмашку, что он делает это в проект, он берётся за него. С военным проектом я не знаю, пока непонятно что, потому что он дорогостоящий. Как вы знаете, кино, если оно вот такого склада, не развлекательное, оно с трудом возвращает деньги. А когда у тебя 15-16, может быть, 18 млн долларов на производство картины, то, конечно, их вернуть крайне трудно. Так что я пока не знаю, что будет с этим проектом. Это так, отложенный замысел. Я даже стараюсь о нём особенно не думать, в том смысле, чтобы не бередить сердце. Что касается нового проекта, в котором мы сейчас заняты, – я уже сказал, 40-ой съёмочный день у нас вчера был, – я, к сожалению, не хотел бы больше говорить, чем то, что уже сказано о нём. Да, он называется «Нелюбовь». Это рабочее название фильма. Это частная история молодой семьи, которая терпит серьёзные… проживает серьёзные минуты, дни своей жизни. Они расстаются. Это нечто вроде «Сцены из супружеской жизни», только совершенно в другой манере. Скажем так, если у Бергмана… совершенно потрясающий фильм. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Там два актёра в течение шести серий…. Этот фильм длится шесть серий по 42-45 минут. И практически постоянно в кадре две актёра. Оторваться невозможно. Ну вы знаете, наверное, видели эту картину. И там естественно люди рефлексирующие, разговаривающие друг с другом. Если помните, она ведёт дневник – это вообще модно было в 1960-е года, психоанализ, вести дневник, что со мной происходит… Вот она зачитывает ему страницы дневника. То есть это интеллектуальные, образованные люди. Это средний класс, Швеция. 1972 год, фильм снимался в 72-ом году. Люди, которые разговаривают. В нашем случае эти люди просто живут и хотят лучшей участи, лучшей доли – каждый. Это другие персонажи. Но «Сцены из супружеской жизни» в том смысле, что одна за другой сцены сводят их вместе, и мы видим, к какой катастрофе, к какому, как бы сказать, разочарованию они приходят.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А замысел как возник?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Как возник замысел. Ну вот кстати, в связи с Бергманом, потому что у меня была такая привязанность что ли к этому тексту, к этому материалу, что как-то мы говорили с Олегом о том, что вот бы что-то похожее. Как, знаете, у Льва Толстого есть такая фраза – все, дескать, пишут романы, которые заканчиваются свадьбой, а вот бы посмотреть, что после свадьбы. Что-то такое. Так и здесь – хотелось заглянуть за, что называется, за этот полог. Когда у тебя 10-12 лет позади жизни совместной с другим человеком – каким ты себя находишь. Естественно, это не всегда. Естественно, это просто исключение. Не исключение, а возможно, для кого-то узнаваемая, а для кого-то совершенно шокирующая история будет. И как-то вот она родилась. Я даже не знаю, как. Как-то однажды позвонил Олег, сказал: «Давай встретимся». Мы встретились, поговорили, и стало ясно, что, кажется, замысел в руках. Там есть ещё одного важное обстоятельство, на фоне которого… То есть фоном являются их отношения, но есть одно событие, которое является таким катализатором что ли, которое взгоняет этот клубок неприязни и нелюбви.
Надо сказать, что частенько говорят, что у вас там нет положительных персонажей. Мы ответили на этот вызов обществу (смеётся). На самом деле я познакомился с… Мы узнали о том, что у нас в Москве существует такое волонтёрское движение, которое называется «Лиза Алерт». Это поисково-спасательный отряд, это волонтёры. Суть дела которых меня настолько поразила, что я вдруг понял, что не надо искать в кино положительных персонажей. И они, кстати, у нас будут действовать. То есть не сами «Лиза Алерт», мы даже не пользуемся их именем – у нас просто поисково-спасательных отряд под своим именем «ПСО». И меня просто поразило то, что они делают. Это люди, которые работают где бы то ни было днём, как я понимаю, там есть кто-то, кто постоянно в этом движении наверняка. Вот представьте себе, монтажёр на телевидении… Я знаю, что одна из них девушка – монтажёр. Или там продавец, оператор, ну в общем люди, которые работают в социальной сфере, или учитель, актёр. И он получает на телефон сообщение о пропаже – потерялся ребёнок или взрослый человек пропал. И дескать ждём тебя на станции метро «Войковская» у последнего вагона или там, я не знаю, на правой чётной стороне.
И вот он, вместо того, чтобы ехать домой, к своим родным, близким, едет туда и ночи напролёт ищет чужого человека. На самом деле это удивительно, что в наше время есть такое движение сердца. Противостоять этой энтропии и равнодушию друг к другу. Я сейчас опять к Ильдару Дадину возвращаюсь. Что есть такие люди, которые способны отдавать самое дорогое, что у них есть, – собственное время, – каким-то далёким, чужим людям. Это удивительно в наше время. В наше время разобщения и недоверия друг к другу. Это удивительно. Так что положительные персонажи в нашей картине будут. Ваш вопрос.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: У меня два вопроса. Я считаю, что у Вас не только талантливые, но и коммерчески успешные картины. Как Вы задумывали свой первый фильм, когда были неизвестным режиссёром? И второй вопрос – как Вы угадываете тему, интуитивно или по каким-то критериям? Что она именно коммерчески будет успешна.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Про коммерческий успех я не думал никогда, честно признаюсь, потому что в этом просто нет нужды. Мало того, это уводит от цели. Более того, никакого рационального решения о том, какая тема сейчас будет нужна.. Это неправильный путь. Путь продюсерского кино или телеролика какого-нибудь: вот мы собираем опрос аудитории, на какую кнопку они жмут. Это совершенно тупиковый, холостой ход, лживый, фальшивый и никому ненужный, кроме тех, кто на этом зарабатывает деньги.
Поэтому первый же фильм был просто песней сердца или как это назвать. Это была любовь, влюблённость в этот материал, когда он открылся, когда стало понятно, что это может быть. Когда я прочёл сценарий, я ещё полгода всё размышлял, искал другой материал. Но вдруг он, именно этот сценарий, вскрылся, стало понятно, о чём он должен быть. И вот тогда уже разлучить меня с этим было невозможно. То есть мы уже катились с горы – я пришёл к Лесневскому, это Дима Лесневский был, и сказал: «Дима, это надо делать точно. Просто давай немедленно это запускать». Когда я говорю ещё раз, замысел стал ясен. Об этом отдельно нужно говорить и долго, наверное, не к чему. Отвечаю на Ваш вопрос. Я не искал денег на эту картину. Это было предложение Лесневского, он сказал: «Давай снимем полнометражный фильм». Дальше мы стали искать этот сценарий, нашли его, и у меня не было вопроса по части того, как мы это снимаем. Я ничего не знал о том, сколько это может стоит. Поэтому первый продюсер, который объявился угадать эту мелодию из двух нот, объявил, значит, сумму 300 тысяч: «Давайте я сниму эту картину за 300 тысяч». В результате с ним не получилось. Появился второй… Нет, за 200! Второй появился – 300 объявил. С ним мы не сработались по причинам, о которых я тоже много говорил. Это просто оказался такой проходимец, который просто украл большие деньги из проекта. Когда мне, к счастью, стало ясно в конце первого месяца работы, благодаря тому, что я хорошо знал директора канала REN-TV – она просто в коридоре мне случайно сказала, в курилке: «Ох ты, ещё не успел кино начать снимать, а уже дескать 40 тысяч потратил». Я так остановился, потому что я проходил мимо курилки, я не курю. Говорю: «Так, секундочку, что?». И вот она мне рассказала, так между делом. Они думали, что процесс идёт. А я знал о том, что процесс не идёт, потому что у нас два человека на проекте, оба кастинг-директоры, один – в Москве, другой – в Питере. И всё. Никаких 40 тысяч быть не может. Я даже сосчитал, сколько мы потратили, потому что мы к тому моменту отсмотрели натуру. Я пришёл к продюсеру и сказал: «Дима, это вор». Прямым текстом. Потому что я не знаю, на что он потратил деньги. Было предположение, что он уже купил плёнку. Я не буду называть имени этого человека – совсем ни к чему. Но оказалось, что и плёнки он не купил заранее – там несколько тысяч метров. И он сказал: «Всё, давай меняй, ищи тогда другого, у меня нет больше продюсеров». Так что я ещё раз говорю – когда бы и где бы то ни было – говорю о том, что в 2002 году мы сняли картину за 405 тыс. долларов, никто в это не верит. По тем временам это были, ну может быть, чуть большие деньги, чем сейчас. Но тем не менее было очень трудно сделать – снять картину с экспедицией, где ты зависишь от погоды, и ты вообще непонятно где. Из гостиниц тебе нужно 2-3 часа добираться до места, двое детей в кадре. Очень тяжёлые условия. И снять её за эти деньги мы всё-таки смогли. А дальше уже как-то было легче. Я никогда не искал денег на свои фильмы. Это уже работа продюсеров.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Андрей, скажите, пожалуйста, некоторые режиссёры используют для своих картин мизансцены из великих художественных полотен. Вы используете?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Да, бывает такое случается. Мы шифруем это. Или просто является каким-то таким, знаете, приветом. Такое бывает. Но не зеркальное повторение или просто копирование. Потому что копирование, оно пусто. Оно всегда будет звенеть этой пустотой, если это просто буквальный перенос. Всегда необходимо как бы это сделать своим что ли. И если и есть какие-то повторения мизансцен, то это просто, скорее… Ну, скажем, вот у Хоппера есть такая картина, – я не помню, как она называется. Девушка с письмом сидит на кровати. И это, скорее, какое-то вдохновение, то есть это: «Ох, хорошо, вот как будет Елена сидеть и писать записку Владимиру». И мы повторяем вплоть до там… Ну вот я помню как раз, когда мы это снимали, Миша занялся светом, выставил всё. Я пришёл на площадку, смотрю, а там верхний свет что ли. Я говорю: «Миш, вспомни. Там от окна». Он говорит: «Ох…». И мы в буквальном смысле повторили характер света даже в этой мизансцене. Но там большее нет ничего, что бы указывало на то, что мы копируем какое-то живописное полотно. И есть ещё такие примеры. В «Левиафане» тоже есть такой пример. Тоже, кстати, из Хоппера. Вот девушка с обнажённым низом в блузе – вот это вот когда Лядова сидит в гостинице, это цитата, такой привет что ли Хопперу. У него есть такая картина. Да, такое бывает, но повторюсь это надо всё-таки сделать заново, создавать это заново.
Сейчас кто-то там был ещё… кто тянул… Да, пожалуйста.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Здравствуйте. Отвечая на первый вопрос, Вы сказали такую фразу – когда хорошо идёт, можно работать 10-12 часов. Действительно, бывают такие дни хорошие, когда ты можешь работать днями-ночами, не спать, не есть. И всё, что получается – какое-то живое, твоё, настоящее, интересное. А бывают плохие дни, когда ты себя заставляешь что-то сделать, что-то придумать, и как-то складывается не так, как ты хочешь. И вот, по Вашему опыту, нужно ли себя заставлять это делать или нужно как-то отвлечься. И если нужно себя заставлять, то как?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Вы сейчас про монтаж или про съёмку?
АВТОР ВОПРОСА: Вообще про любой творческий процесс.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Ну творческий процесс я не знаю, он у каждого свой. Тут советы давать совершенно бессмысленно. Если не идёт, значит, не идёт. Вопрос – вдохновение или труд. Тут надо как-то пропорции соблюдать. С одной стороны – нельзя ждать вдохновения и только его. Взгонять его как-то искусственным образом. Но мне кажется, нет… Вот смотрите, это же производственный процесс, технологический…
АВТОР ВОПРОСА: Нет-нет, я говорю не про монтаж.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Или про съёмку – отменить её нельзя.
АВТОР ВОПРОСА: Я говорю про создание фильма.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я так бы сказал, может быть, уйду от вопроса. Не ты выбираешь тему (особенно вот это слово мне нравится «тему»), которая будет созвучна настроениям общества, вызовам, которые продиктованы реальностью… Я отвечу… Как бы сказать – не ты выбираешь его, а он выбирает тебя. И если он к тебе пришёл, замысел, если ты понял, что ты не можешь жить без того, чтобы его не реализовать, то тут уже, я вам скажу, руки не могут опускаться. Ты постоянно в состоянии тревоги за то, как он родится, каким он будет. Ты в постоянном драйве, в ощущении, как бы сказать, необходимости отдания энергии. У меня такое ощущение, что это в творческий вечер превращается. Одним словом, девушка, если у Вас не идёт, такое бывает.
Есть фильм даже такой у Анатолия Васильева… Анатолий Васильев – театральный режиссёр, ставил спектакль «Серсо». И вот он долго-долго-долго, несколько месяцев подряд репетировал и никак не шло. И вот сняли это на киноплёнку, Олег Морозов снял это на киноплёнку… Потрясающий, кстати, оператор, талантливейший, и почти, можно сказать, учился во ВГИКе, но он ученик Анатолия Васильева. Он всё это засняли. И фильм они назвали «Не идёт». Такое бывает. Да что говорить, вот мы сидим там, с Мишей собираемся, у нас 37-ой эпизод, мы 36 уже прошли. И ну идёт. Ну что сделаешь? Сидишь, мечтаешь, выйдешь в кафе, посидишь, на людей посмотришь, пообсуждаешь что-нибудь, какие-нибудь новости или там что-нибудь такое. Рано или поздно придёт. Ты точно знаешь метку – вот у тебя 5 сентября, а ты, например, в мае. 5 сентября у тебя должны быть решены 114 эпизодов. А ты сейчас на 37. Понятно, что ну завтра пойдёт. Или зайдёшь с другого конца и так далее.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Во-первых, спасибо за «Левиафана» отдельное. Скажите, пожалуйста, раз уж Вы с таким уважением и с таким почтением к актёрам театральным относитесь, а есть ли режиссёры сегодня театральные, помимо Васильева, которые Вам интересны?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Мне очень нравится Константин Богомолов. Я считаю, его выдающимся режиссёром, выдающимся современником, умнейшим человеком. Он умница просто. Вот это моё отношение к сегодняшнему контексту, к современному театру. Мне очень нравится Тимофей Кулябин. Я видел его спектакли, которые вы ещё, может быть, не видели в Москве «Три сестры». Он привозил его, и было два только показа, но я знаю, что номинировали уже на следующую «Маску» спектакль, и он точно будет в Москве. Мне этот спектакль его очень нравится. Я его знаю просто, что называется, в силу некоторых обстоятельств. Он земляк, он из Новосибирска, оттуда же, откуда и я. Я видел там два его спектакля, здесь в Москве видел «Электру» и вот этот третий или четвёртый спектакль, который я посмотрел. Мне его очень нахваливали и сказали, что его надо «обязательно посмотреть». Я пришёл, не пожалел, и более того – я был в восторге от решения, от того, что он сделал, на что он дерзнул, и как он это всё представил. Он очень молодой человек, надо сказать, Тимофей. По-моему, 32-33 года, и он очень образован, он очень саморазвивающийся организм. Мне кажется, это очень большой художник.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: И в догоночку про театр. Считаете ли Вы театром, когда скрещиваются киноискусство и театр?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Ну слушайте, театр уже давно шагнул на эту территорию отказа от драматизма, драматического театра или театра переживания и шагнул на территорию синтетического искусство. Кто-то это принимает, я не могу высказаться в пользу или напротив – сказать, что это какое-то дурное начинание, зачем это делать и так далее. Иногда это хорошо. Вот так. А иногда это просто… это не стало живым. Как вот я говорю, когда ты используешь мизансцену какую-то из живописного какого-то решения, то оно должно стать твоим, оно должно стать частью твоего произведения. И если это не становится, понятно, что это просто холостой ход – а давайте сюда монитор поставим и будем снимать с этих сторон. Если это имеет смысл, тогда почему бы и нет.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Как создался Ваш вкус кинематографический. У Вас есть большой список тех картина, которые Вы рекомендуете. За то время, когда Вы насыщались им, когда Вы смотрели, Вы сейчас во время работы, понимаете – вот это вот что-то мне пришло из той картины, от того автора? То есть насколько важны эти люди, эти имена, эти картины в формировании Вас, как художника?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я понял, я понял Вас. Вы знаете, вот так скажу. Вы замечали, как дети похожи на родителей. Да, прихваты, какие-то жесты, вот он так же делает, у него волос нет, он только постригся. То есть я хочу сказать, что это неизбежность, если ты чему-то сочувствуешь, сопереживаешь, если это входит в тебя, как твой хлеб, то ты просто невольно становишься этим что ли. Ты обретаешься на той же территории, ты как бы попадаешь в плен вот этого языка. И это не является… Повторюсь, заимствование, оно всегда видно. Оно выпирает, как что-то неуклюжее, чужое и не естественное. А если ты просто пропитан этим и живёшь этим, ты просто по-другому не можешь. Только так. Мне кажется, в этом всё дело. Список, о котором Вы говорите, я составил в буквальном смысле за несколько часов, часа за два, может быть. Причём так – не усидчиво долго два часа, а я просто настроил, что называется, себя на такую волну – вспомнить все свои потрясения или какие-то раны. Или какие-то встречи с фильмов, которые меня перевернули, которые у меня просто выбили стул из-под ног… пол из-под ног, стул из-под… тебя. То есть какие-то очень сильные встречи. Очень сильные. И повторюсь, к этому списку прилагается некий текст. Я вот повторю, что никакой иерархии в этом нет, кроме той иерархии, когда я ссылаюсь на имена, которые я считаю просто самыми великими кинематографистами за всю историю кино, которые нам киномир подарил. Остальные все всплывали просто по воле вот этого усилия – вспомнить ощущения. Поэтому я думаю, что такой путь… как бы сказать… Так сложилось, что кто-то даже высказывался относительно самого этого списка, кто-то из кинокритиков, что «ну понятно, это всё музейное кино». А другого и не могло быть, потому что я ходил в Музей кино и там это всё смотрел. Ну и какие-то ещё детские впечатления, юношеские. Я помню, как я увидел «Осеннюю сонату», что со мной было. Я помню, как я увидел «Рассекая волны» Триеровское, что со мной было. Когда ты просто абсолютно опустошаешь, как будто из тебя вынули всё твоё вещество человеческое. Я не знаю, душа это или что. Встряхнули его и вложили снова, и ты как будто омовение совершил такое вот, ты вдруг родился новым. Вот такие события я и помечал. А они не могут пройти бесследно. И они поселяются в тебе и становится необходимостью что ли. Ты не можешь дышать по-другому. «Каждый пишет, как он дышит», или как там?
Я бы так ответил на этот вопрос.
АВТОР ВОПРОСА: Спасибо.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Давайте к этому лагерю – левому перейду.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Андрей Петрович, в Ваших картинах в том, что имеет отношение к отношениям между мужчиной и женщиной, мы видим разного рода нелюбовь. Увидим ли мы когда-то любовь?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Понимаете, а для чего? Для того, чтобы явить пример? Всё равно ни одна, как бы сказать, позитивная идея, особенно подобная… Вот я говорил про фальшивый финал, хэппи-энд такой, он не научает человека жить с самим собой. В этом смысле это такие что ли… не предостережения – предложения взглянуть на себя попристальней, поскольку я исхожу из своего собственного опыта и из наблюдений за самим собой в том числе. Человек многолик. Человек очень… Ну и потом так много фильмов про то, как всё прекрасно-замечательно, как соединила их любовь.
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: У каждого своё представление о любви.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Ну представление о любви, знаете! Мы свели всё это к одному слову. Вы знаете, у греков было семь, я помню отчётливо эту цифру, семь разновидностей любви. То есть понятие любви включало в себя семь совершенно разных сфер человеческого чувствования. Это мы свели всё к одному, и поэтому у нас бардак с этим. Вот. Это очень такое понятие, о котором свидетельствовать могут реальные истории, чьи-нибудь поступки. Или поступки преданности или жертвенности. Или чья-нибудь биография. Если ты читаешь переписку людей Цветаевского… Серебряный век – муж и жена, это было так давно, что я даже не помню, кто эти люди, не помню имена, но я просто захлёбывался, читал эти тексты. И это как бы сказать… Когда являет подвиг жертвы, подвиг любви, человек, который прожил это – это может быть каким-то примером.
А в кино создавать… Нет, я сейчас запутаюсь, не то что-то говорю. Извините. Короче говоря, мне кажется, интересней, ну лично, мне разбираться, что там не так с этой любовью. Что не так. А почему вот бывает такое, что люди, прожившие 12 лет вместе, просто сожалеют об этих годах, воспринимают это как ошибку свою, ошибку своего жизненного пути. «12 лет. Всё напрасно. Ты понимаешь, что я тебе всю жизнь отдала», – горит она. Вот как так? То есть мы не разбираемся в причинах, потому что причина совершенно очевидна – отсутствие взгляда на человека, как на цель. Мы смотрим друг на средство, называем это «любовью», иммигрируем, обманываем самих себя, другого. И если уж говорить о любви, проще, мне кажется, открыть тексты Платона, где он рассуждает о любви, что есть истинная любовь. Вот этот вдела, он недостижим. Его в обстоятельствах нашей борьбы за выживание, борьбы за себя самого и битву с другим просто не на жизнь, а на смерть. Эгоистическую битву за себя самого. Вот это, мне кажется, интересно, потому что это наша жизнь что ли. Мы стараемся найти в себе этот источник, мы стараемся, но мы так слабы и так… ну и так далее.
Аплодисменты.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Я специально заглянула в фильмы. Там сказано, что Вы разочаровались в театре. <Неразборчиво>
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я уже сказал – в Музее кино. И знаете, что. Я снимался в кино. Это громко сказано, снимался в каких-то там пустяках и наблюдал площадку и видел, как это всё устроено. И понимал, что я тоже так могу. Думал я. Сам механизм, на самом деле я уже повторяюсь, много раз говорил о том, что технология создания, площадка сама, как она работает, совершенно ясна. Её усвоить можно быстро и скоро. Теперь, когда монтажные программы существуют просто в Iphone. Можно научиться одно изображение с другим склеивать, то есть в этом нет особенной, как бы сказать, проблемы. Проблемой является только одно – нужно найти свой голос, то есть нужно найти свой собственный язык, быть искренним, честным в подходе к материалу, к ритму, не идти на компромиссы. Просто, скажем так, я ставлю перед собой задачу – вот сегодня у нас три плана. Я не могу потом выйти к зрителю и сказать: «Вот сейчас вы видели эпизод, ну там, знаете, получилось, так, ну не смогла, ну не вышло, к сожалению. Но мы старались. Мы старались». Нет, ты должен сделать всё возможное, чтобы этот план был идеальным. Идеальным в твоём понимании, чтобы он удовлетворял все твои требования по всем параметрам: по актёрскому существованию, по освещению, по настроению, по атмосфере, по ритму, по всем остальным.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Андрей Петрович, я заметил, что Вы часто в своих интервью, даже сегодня употребили слово «досада». Что для Вас чувство досады? Какие чувства Вас мотивируют, движут Вас в кино? И переносите ли Вы вообще свои чувства жизненные, какие-то важные? И какое состояние, может, для Вас самое важное?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Состояние?
АВТОР ВОПРОСА: Потому что я смотрю Ваше кино, и оно меня погружает в состояние. Я как зритель пребываю в состоянии. Я отключаюсь от каких-то своих, других и получаю энергию этого состояния. Не знаю, как его назвать. Но есть какая-то досада…
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Достала по поводу того, что я смотрю? (смеётся)
АВТОР ВОПРОСА: Соотносите ли Вы свои чувства со своим кино?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Ну мне кажется, я не знаю, как ответить на этот вопрос, и что тут подобрать в смысле словоупотребления. Естественно, если это чувства – ну а как я ж не могу создавать что-то, что никак не сопряжено с моими… Вот про ритм я уже говорил, с ритмом твоего сердца, с тем, как ты можешь смотреть на происходящее в кадре. То есть кто-то говорит – это медленно, давай, скорей иди. Кто-то говорит – постой здесь. Это чувство ритма. Или чувство музыкальное, я уж не знаю, как об этом говорить. Чувство ли это или это просто… Я знаю одно. Вы, может, сами ловили себя на том, что ты начинишь смотреть фильм, и уже первый кадр тебе говорит, ты будешь смотреть этот фильм, это вообще фильм или это что-то другое. Обязательно фильм должен обладать свойством суггестии. То, о чём Вы говорите. Зритель должен попасть в гипнотическое состояние входа в другую реальность. Как это, чем ты добиваешься такого напряжения изображения, я не знаю – это непонятно как. Вот как говорю – веришь или нет. Вот ты смотришь кадр: овраг, тропинка, по тропинке идёт человек. Ты снимаешь дубль, ты понимаешь, что это просто тропинка, овраг и идёт человек. Чего-то не происходит. Потом в какой-то момент что-то ты меняешь в этом решении или в какой-то момент ты привыкаешь к нему, может быть, что-то такое ты делаешь, почти… Я не знаю, с собой или с пространством, что-то мистическое, что вдруг это начинает жить. И ты не можешь оторвать глаз от этого человека, который идёт по тропинке. Как вот этот путь от пустоты, от холостого приходит к тому, когда вдруг всё начинает набухать и становится живым, я не знаю, правда. Просто ждёшь этого мгновения, когда кадр начинает жить. Вот.
АВТОР ВОПРОСА: Много Вы делаете дублей?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Дублей много, да. Очень много.
АВТОР ВОПРОСА: Я просто слышал, что Вы делаете много дублей. А когда добились того, чего хотели, говорите: «А теперь ещё закрепим».
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: А теперь закрепим. Это как правило такой дубль: «А давай теперь, как бог на душу положит. Забудь все установки, рисунок, это твой актёрский… Давай, сделай просто. Давай теперь всё то же самое сделаем, только безответственно просто сделаем». И актёр чаще всего говорит: «О, давайте!». В том же рисунке, только рисунок уже нанесён, графически уже сделан, а потом кладётся масло, как в живописи. Так и здесь – рисунок уже никуда не денется.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Как часто бывает?
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: По-разному бывает. Мы пытались ввести такую практику что ли, когда «Ой отлично супер, это отличный дубль. Давай пометим». Мы и сейчас так делаем, потому что дублей на этом проекте очень много. Уже все просто… Ну просто только по томй причине, что мы снимаем не на плёнку. Я вот думаю, что это баловство. Это как раз расслабляет тебя. Ты знаешь, что можешь позволить себе много сделать дублей. И я вот жду, когда что-то ещё произойдёт – с актёром, с пространством, что-то ещё. Вдруг сложится узор, который нельзя прогнозировать, нельзя его определить: «Вот здесь сделай это». Что-то ещё в мимике или в жесте или во взгляде вдруг что-то появится и будет другого свойства. И в тот момент, когда ты понимаешь, что дубль у тебя в кармане, ты понимаешь, что это есть. Вот тут можно сказать: «Давайте это закрепим». «Закрепим» значит отпустим. Другими словами – отпустим.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Я быстро. Вы говорите, фильм рождается за столом, причём долгое время, проламывается, прописывается. То, что Вы придумали за полгода, допустим, всегда ли это в 100% реализуется.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Нет.
АВТОР ВОПРОСА: Сильно ли это отличается.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Не могу сказать, насколько сильно. Но, кончено, не всегда – это для того, чтобы у тебя в кармане было решение. Решение может измениться, ты ходишь и понимаешь, что решённый умозрительно вот так эпизод не работает. И тогда ты ищешь, что нужно сделать с камерой, с актёром, с мизансценой, ещё с чем-то, с каким-то элементом кадра, чтобы он зажил, поэтому да – он как призрак рождается у тебя. То есть есть страница, есть эпизод, в которой происходит это, ты представляешь себе это фиксируешь на бумаге, как это будет снято, и всё равно это является до поры призраком, который потом превращается в материал, в фактуру. И вот на этом пути, конечно, изменения возможны. И чаще всего бывает так.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: У меня лёгкий вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы перечислили много режиссёров, которые Вас вдохновили. В основном европейские. Вы же человек родом из СССР. Какие советские или российские режиссёры, их картины фильмы Вам нравились, вдохновляли? Вы же пошли в профессию актёра почему-то. Может быть, Вас что-то вдохновило из фильмов? И ну опять-таки, мы в академии Михалкова. Может быть, что-то из фильмов Михалкова…
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Айяйяйяйяй… (смеётся). Я пошёл в актёры только потому, что мне мой товарищ, который был старше меня на год, – мне было лет 14 что ли или 15, – сказал: «Тебе надо в театр». И я собственно поэтому и решил, что мне надо туда. Конечно, не фильмы какие-то. Ну какие там фильмы? Мне 12-14 лет было. Нет, 15, наверное уже. Ну какие-то фильмы были, и что. Я никогда не забуду, как я в кинотеатре… Я думал, что это фигура речи «Упасть со стула от смеха». На самом деле это реально – я упал в кинотеатре со стула. Мне было 12-14 лет, я смотрел «Золотую лихорадку» Чаплина. Поэтому когда мне говорят, что Бастер Китон – «это о… а Чаплин – это… », я не разделяю это мнение. Стал актёром. То есть мечтал быть актёром, пошёл в театральное училище. В Новосибирске, слава богу, такое было. И там уже получил первые уроки того, что такое сцена, что такое театр. В ту пору, это 1980 год, очень многие ссылались на то, что театр – это храм, на Гоголевские слова, что сцена – это кафедра. То есть привили мне вкус к тому, что это какое-то служение. Служение смыслам, служение людям, служение обществу и какое-то вот, знаете, как бы сказать…
Я не помню, когда я решил стать режиссёром, признаюсь честно. Не было таких у меня амбиций. Я просто от того, что нужно было как-то справляться с голодом, я решил, что я вполне могу себе позволить снять какой-нибудь рекламный ролик. Это были 1990-е годы, тогда кто угодно мог снимать рекламные ролики. Это было время такое, когда можно было вообще назваться груздем и им оказаться. И вот это была просто вынужденная какая-то мера, потому что актёрский хлеб и жизнь в Москве ничего не сулили, у меня был абсолютный ноль. И мне нужно было как-то выживать. И только вот Музей кино и просмотры фильмов… Конечно, я знал уже Тарковского, до этого я вот рассказывал «Осеннюю сонату» увидел в 18 лет, и просто это перевернуло всё моё представление о том, что есть кино. У меня было такое событие, когда я смотрел на кино как на актёрское воплощение, на актёров. Я помню Аль Пачино, меня сразил просто, я думал, как он это делает. Я смотрел только на эту сторону. И только вот с Бергманом и с Тарковским я увидел кино с другой стороны. Я когда случилась встреча у меня, я учился на втором курсе ГИТИСа уже в Москве, и увидел «Приключение» Антониони, вот это был час «Х». Встреча с тем камнем на пути, который мне сказал: «Иди вправо. Коня потеряешь». Я потерял профессию и пошёл в кино. Я уже грезил кино. Сначала по энерции как бы об актёрском воплощении. Всё мечтал найти такого режиссёра, который посадит тебя на стул и будет смотреть, как ты смотришь на другого персонажа. Помните этот эпизод в «Приключении», когда она поёт какую-то песню, радио играет, а он садится так и смотрит на неё и вдруг в какой-то момент перестаёт смотреть на неё и смотрит сквозь неё. И она это видит. И вот когда я увидел это чудо, этот фильм «Приключение», он просто перевернул моё представление о том, что такое актёр, что он просто… я вот сейчас делаю реверанс в сторону актёров, которым отказал в начале нашей беседы в том, что они самостоятельны. Я уверен, что актёры являются представителями эпохи. Вот эти лица как бы делегированы представлять человечество. И если они органичны, если они живы, если они абсолютно естественны, если они не чудачествуют в кадре, а просто являют собой человеческую экзистенцию что ли, вот это и есть настоящее призвание актёра – быть живым. Так вот, возвращаясь к Вашему вопросу. Конечно, Отар Иоселиани, если о наших режиссёрах говорить. Конечно, его фильмы. Первый особенно. Это любовь моя. Или скажем фильм Шпаликова, по-моему, «Долгая счастливая жизнь». Хуциев, какие-то его фильмы. Герман, без сомнения. Для меня Герман – это, конечно, тоже событие, которе перевернуло… Я «Проверку на дорогах» могу смотреть бесконечно. Потому что это, я считаю, великий фильм, как и «20 дней без войны». Но эти события все были уже в осознанном возрасте, когда я окончил театральное училище, приехал в Москву. И в кинотеатре повторного фильма по первости, а потом уже в Музее кино, добирал. Конечно, в пору учёбы в Новосибирске, это 1980-84 год, естественно, мы смотрели фильмы Михалкова. Я помню, как меня совершенно потряс фильм Кончаловского «Ася Клячина, которая любила да не вышла замуж, потому что гордая была». Ясное дело, ретроспектива Тарковского – я до сих пор помню все его фильмы. До «Ностальгии». Так что русское кино, конечно, является той частью того материала,которая осела в душе. Разумеется. Михалков, его «Пьеса механическая…», его «Пять вечеров» – прекрасный фильм, я считаю. Ну вот так.
АВТОР ВОПРОСА: А сегодняшние режиссёры? Вы можете кого-то отметить.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Я уже говорил об этом. Мне нравится Сергей Лозница. Вот кто-то на Константина Богомолова почему-то отреагировал. Сергей Лозница. Мне очень нравится его первый фильм, да и второй тоже. Выдающиеся, мне кажется, произведения. Господи, как называется… «Счастье моё». Другие режиссёры – Федорченко, Мизгирёв Алексей. Мы с ним даже дружны, мне кажется. Не могу сейчас вспомнить всех имён.
ОРГАНИЗАТОР: Андрей Петрович, давайте мы оставим это до следующей встречи.
АНДРЕЙ ЗВЯГИНЦЕВ: Давайте.
Аплодисменты.
Фото- и видеоматериалы: Юрий Фокин
Похожие новости
ДЕНЬ ВТОРОЙ, 16 января: Всероссийское совещание документалистов. Полная видеозапись и стенограмма
Россия. 29 января, 2018 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие фестиваля документального кино “Артдокфест” в Санкт-Петербурге
Россия. 4 апреля, 2021 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO
Премия неигрового кино “Золотая свеча” открыла приём заявок
Россия. 25 октября, 2025 – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО REALISTFILM.INFO